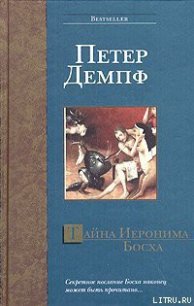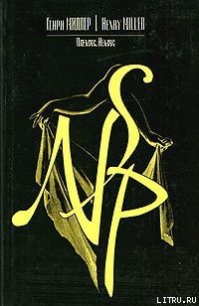Биг-Сур и Апельсины Иеронима Босха - Миллер Генри Валентайн (книги онлайн бесплатно TXT) 📗
С нею я знаком почти так же хорошо, как Джин Уортон, потратившая столько времени и сил на то, чтобы открывать положительные стороны вещей людям, которые видят только негативное или скорее не способны постичь его, потому что, если бы это им удалось, они больше не нуждались бы в позитивном, довольствуясь негативным. Почему мы не можем держаться позитивного, раз уж нам его показали? Ответов много, как и причин: от школы до догматизма. В любом случае, не напоминаем ли мы с вами тех близоруких, которые заснули, едучи в поезде, очки благополучно торчат в кармашке, и вдруг они открывают глаза и какую-то долю секунды видят все ясно и четко, так ясно и четко, словно у них прекрасное зрение? Не надо придираться. Они прекрасно видели — но лишь несколько мгновений. Отчего это произошло? Задаются ли они подобным вопросом? Нет! Они спокойно протирают глаза, в которых снова все расплывается, и надевают очки. В очках, говорят они себе, они могут видеть так же хорошо, как сосед. Но они не видят так же хорошо, как человек с нормальным зрением. Они видят, как люди с недостаточным зрением.
Все действует совокупно — острота зрения, поза, положение, скорость и, как говорил Бальзак, «угол зрения». Ангел в человеке готов прийти на помощь всякий раз, когда это ужасное человеческое существо хочет, чтобы его особое состояние длилось как можно дольше. Все не только видится иначе, появляется иным, когда острота зрения восстановлена. Видеть вещи цельными — значит быть цельным. Тот, кто намерен все предать огню, двойник дурня, который думает, что может спасти мир. Мир незачем ни сжигать, ни спасать. Мир — существует, мы — существуем. Временно, если отвергнем его; всегда — если примем. Нет ничего прочного, устоявшегося, неизменного. Все текуче, потому что все сотворенное тоже творит. Если вы несчастливы — «а я знаю, что вы несчастливы!» — задумайтесь как следует! Можно провести остаток жизни, сражаясь до победы на всех фронтах, всех направлениях, — и ни к чему не прийти. Откажитесь от борьбы, признайте себя побежденным, и, возможно, вы увидите мир иными глазами. Более чем вероятно, что вы увидите ваших друзей и врагов в ином свете — даже вашу жену или того подлого, невнимательного, тупого, вспыльчивого, проспиртованного дьявола — вашего мужа.
Есть ли расхождение между этим реалистическим наброском, который я вам только что представил, и привлекательной картиной реальности, что я написал, когда «апельсинные деревья» были в цвету? Несомненно есть. Может, я сам себе противоречил? Нет! Обе картины правдивы, даром что несут на себе печать зимнего настроения. Мы всегда пребываем в двух мирах одновременно, и оба мира — нереальны. Один — это тот, где, как нам кажется, мы находимся, другой — в котором хотели бы оказаться. От времени до времени, словно сквозь щелку в двери — или как близорукий, заснувший в поезде, — мы видим проблеск неизменного мира. И тогда мы познаем разницу между реальным и иллюзорным лучше, нежели внимая любому метафизику.
Я уже несколько раз подчеркивал тот факт, что все, что человек постигает здесь, в Биг-Суре, он постигает окончательней, быстрей, верней, чем смог бы постичь где-то в другом месте. Я снова возвращаюсь к этому. Повторяю, здешние люди ничем существенным не отличаются от людей где-нибудь еще. Они испытывают в основном такие же трудности, что и те, кто живет в городах, джунглях, пустыне или бескрайних степях. Главная трудность не в том, чтобы быть в мире с соседом, но в том, чтобы быть в мире с самим собой. Вы скажете, банально. И тем не менее это так.
Отчего человеческие проблемы (здесь, в Биг-Суре) принимают такой трагический оборот? Порой — почти мелодраматический. Во многом это объясняется самим местом. Если бы душа захотела выбрать арену, где разыграть свои страсти, это было бы самое подходящее место. Здесь человек чувствует себя открытым — не только стихиям, но взору Бога. Обнаженные, саднящие, вынесенные на фон декораций, подавляющих своей мощью и величием, человеческие проблемы приобретают совершенно иной масштаб благодаря просцениуму, на котором разыгрывается конфликт. Робинсон Джефферс безошибочно усилил эту сторону своих сюжетных поэм. Его герои и их поступки отнюдь не выглядят чрезмерными, преувеличенными, как полагают некоторые. Если в его поэмах есть что-то от греческой трагедии, то это потому, что Джефферс вновь нашел здесь атмосферу богов и рока, которыми одержимы были древние греки. Здешний свет — почти такой же электрический, холмы — почти такие же голые, поселение — почти такое же самостоятельное, как в древней Греции. Суровым первопроходцам, обосновавшимся здесь, нужен был только голос, который поведал бы об их неведомой драме. И Джефферс стал этим голосом.
Но есть и другой фактор, который сейчас вступает в игру. Хотя Биг-Сур место изолированное (не полностью), до него докатываются, как через волнорез, волны бури, бушующей в мире. Живя здесь, у моря ли, на вершине ли горы, ощущаешь, что все это происходит где-то «там, далеко». Нет необходимости за утренним кофе читать газету или настраивать радио на последнее шоковое известие. Можно читать газету или не читать, слушать радио или не слушать и при этом не чувствовать, что шагаешь не в ногу с остальной частью общества. Не нужно ехать на работу в переполненном, вонючем сабвее; не нужно целый день висеть на телефоне; не нужно воевать с пикетом или с полицией, швыряющей гранаты со слезоточивым газом в охваченную паникой толпу. Нет надобности покупать телевизор детям. Жизнь здесь идет своим чередом, свободная от множества вещей, выбивающих человека из колеи, которые в остальной Америке считаются нормой.
С другой стороны, когда становится совсем тяжко, когда не знаешь, как быть, когда терпение готово лопнуть, и не к кому пойти, и нет кино, чтобы отвлечься, нет бара, чтобы забыться (места, где можно выпить, есть, но с вами никто не будет знаться, если вы там напьетесь), нет улиц, чтобы пошататься, ни подонков, чтобы подраться, ни витрин, на которые можно поглазеть. Вы полностью предоставлены самому себе. Если все же вам хочется сорвать зло, срывайте его на бурных волнах, на тихом лесу, на каменных горах. Здесь можно испытать такое отчаяние, какого городскому человеку не понять. Разумеется, вас даже может охватить амок... но куда это вас заведет? Горы не исполосуешь, небо не изрубишь на куски и самым широким мечом не снесешь волну. Можно допиться до белой горячки, но что на все это скажет Мать Природа?
Помню время — здесь, в Партингтон-Ридже, — когда я прошел через все стадии настоящего отчаяния. Это было, когда тогдашняя моя жена решила найти для себя выход из безнадежного положения, в котором мы находились. Она повезла детей на Восточное побережье, якобы для того, чтобы познакомить их с дедушкой и бабушкой, которых дети никогда не видели. Через несколько дней как они должны были прибыть на место, вдруг от них перестали приходить письма. Я ждал, написал несколько писем, на которые не получил ответа, одно вернулось нераспечатанным (что означало: адресат выбыл в неизвестном направлении или умер), а потом, когда молчание окончательно сгустилось, вдруг ударился в панику. Я не столько беспокоился о жене, хотя, наверно, следовало бы, сколько о детях. «Где, черт подери, мои дети?» — беспрестанно спрашивал я себя. Я спрашивал все громче и громче, пока не стало казаться, что я ору во все горло, так что все слышат. Наконец я послал телеграмму сестре жены и два дня спустя получил ответ, что «они» несколько дней назад сели на поезд и теперь уже, наверное, в Лос-Анджелесе. Это было слабым утешением, потому что, как мне тогда (по наивности) представлялось, если она намеревалась привезти детей домой, то Лос-Анджелес — отнюдь не дом. Кроме того, как я мог быть уверен, что она сошла в Лос-Анджелесе? Может быть, для нее это только стартовая площадка? Может быть, они пересекли границу и сейчас уже где-нибудь в Мексике? И в тот миг я понял, что «дом» стал значить кое-что другое — для нее. Теперь у меня не было способа связаться с ней. Меня отсекли, резко и точно, как бритвой. Прошел день, другой, третий. По-прежнему ни слова. Гордость удержала меня от того, чтобы снова писать ее сестре. «Буду сидеть и ждать, — сказал я себе. — Буду сидеть до скончания времен». Легко сказать! В сутках двадцать четыре часа, а их можно разбить на минуты, секунды и доли секунд, которые длятся вечность. И все, о чем можешь думать, что можешь повторять себе вновь и вновь, это: «Где они, где они, где они?» Конечно, можно пойти в полицию или нанять частного детектива... человек действия способен придумать тысячу вариантов, что можно предпринять в подобном критическом положении. Но у меня иной характер. Я сижу на скале и думаю. Или думаю, что думаю. Никто не может сказать, что он «думает», когда в голове у него беспрестанно звучат только одни и те же вопросы, одни и те же ответы. Нет, голова у меня была просто пуста, пуста, как пузырь, в котором оглушительно пульсировали попеременно страхи и надежды, угрызения и покаяния.