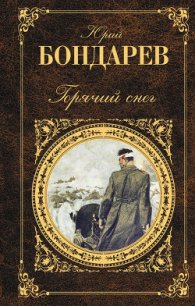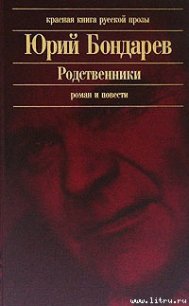Игра - Бондарев Юрий Васильевич (читаем полную версию книг бесплатно TXT) 📗
«Стоит ли думать, какими мы были тридцать лет назад? Терентий хороший директор, предан делу…»
– Так как Соня? Наследника не ждете?
– Вся моя жизнь от вас зависит, Вячеслав Андреевич, все время о вас думаю. Неверующий я, а то бы молился, – проникновенно сказал Молочков и взволнованно перевел дух. – Как я без вашей помощи? Даже на законный брак, можно сказать, благословили. Может, скоро ребеночек будет у Сони. Я сына хочу, она девочку. Споры семейные по этому вопросу. Да боязно, Вячеслав Андреевич. Очень уж боязно.
– Чего боязно?
– У Сони астма. Петь она вовсе перестала. Иногда прямо задыхается. В этом году три раза неотложку вызывал. Жить ей в городе врачи не рекомендуют. За городом надо, на хорошем воздухе. Вот я кооперативный участок взял от студии. Напрячься бы силенками, домишко построить, Вячеслав Андреевич, – для Сони спасение. Ох, удалось бы!..
– Понятно. Удастся. Тебе удастся.
– Почему вы так сказали?
– Тебе сейчас все удастся, Терентий. Ты вошел в полосу удачи. Есть в жизни полоса везения и невезения. Ты – в полосе везения. Мчишься в ней на своем «Москвиче».
– Смеетесь надо мной? А вы как же?
– Я вышел из полосы. И смеюсь над собой, конечно.
Молочков покосился на Крымова, и вкрадчивые, замерцавшие глаза его значительно округлились, показывая понимание интеллигентной шутки. Но когда он снова повернулся к рулю, затылок его стал прямым, выжидательным, а поющий голос подчеркнуто недоверчивым:
– Разве глупые слухи, наговоры – факт? Вы человек всему миру известный – никто вас пальцем не тронет! Разве кто вас свалит?
Крымов опустил стекло и, глядя на просверки солнца меж елей за обочиной шоссе, вдохнул теплый ветер, напоенный сухой хвоей, сказал:
– На земле нет неприкасаемых людей. Падает тот, кто бежит. Тот, кто ползет, упасть не может. Я слишком долго бежал. А это не все поголовно любят. Впрочем, я просто работал. Работал, работал. И пытался поймать за хвост жар-птицу. Понимаешь, Терентий?
– Неужто Нечуралов вместо вас картину снимать будет? Ведь слухи о нем, – проговорил оробело Молочков, и пряменький затылок его опять выжидательно замер. – А я как без вас? Неужто с вами серьезно?
– Ты не пропадешь, директор. – Крымов ободряюще похлопал его по плечу. – Мужик ты тертый, обходительный, со всеми умеешь ладить. Балабанов тебя любит, да и ты хорошо ему служишь. Скажи, дорогой Терентий, во имя чего ты лжешь ему, наговариваешь на меня всякие небылицы, придумываешь фантастические сюжеты?
«Вот что целый день раздражало меня, как тоскливая неопределенность».
– Служу я ему и вам, Вячеслав Андреевич, – тоном тихого и покорного согласия отозвался Молочков. – И Советской власти. Я человек маленький. На войне подчинялся и сейчас приказы выполняю. Ничего я плохого о вас не наговариваю, а наоборот – помогаю вам, извините. Сил у меня маловато, видать, для помощи. Да как могу. Разве я против вас?
Тихий голос Молочкова поперхнулся обидой, стал носовым, жидким, и Крымов проговорил досадливо:
– Ну, вот еще этого не хватало, начинается сцена из мелодрамы. Ты что, научился играть в кинематографе? Перестань ныть, смешно это! Без меры хитер ты, Терентий, и очень хорошо знаешь, что лесть пожирает слабых заживо.
– Смеетесь надо мной? Обижаете, – выговорил надтреснутым, больным голосом Молочков и огорченно покачал головой. – А я как раз сегодня о серьезном деле должен поговорить с вами. Вас касается. Не догадывались, зачем я вас не на студийной машине домой отправил, а на своей везу? Ведь шофер Гулин – дурак глубокий, пьяную морду вы ему правильно набили, а он к закону обращается, в суд на вас подавать хочет. Вот стерва подколодная! Сегодня ко мне приходил в свидетели меня приглашать.
– Что ж, это его дело, – сказал непроницаемо Крымов, вспомнив исподлобный, заметавшийся взгляд Гулина, которого он на днях встретил в съемочной группе. – И что ты ответил?
Молочков виновато поморгал леденцовыми глазами, ноздри его маленького хрящеватого носа до побеления напряглись.
– А дурак – разве он не опасный, Вячеслав Андреевич? Кто знает, что ему в голову залезет. Говорил я с ним долго, целый час он у меня сидел, убеждал всеми словами, что его самого, неумейку и пьянь, под суд легко отдать. А он мне: «Крымов хотел меня изуродовать за то, что видел я, как он с потаскухой Скворцовой в траве валялся, угрожал мне. Пусть, мол, суд во всем данном темном деле разберется». Кирпич, сволочь, а не человек! Темнотища лимитная…
– И дальше что? Что замолчал? Говори до конца, Терентий.
«Бред, безумие… Для чего мне знать? А дальше что будет со всеми нами? – подумал вдруг Крымов и глотнул из окна струю сквозняка, чтобы унять боль в сердце. – Кто спасет нас от опасных дураков?»
– Пьянь-то он пьянь, а расчет в голове имел, – продолжал Молочков с едким осуждением. – Изуродовать, говорит, меня хотел, так пусть, говорит, по справедливости заплатит, и тогда прощу я его, квиты будем, и в суд не подам. Ежели шофер человека сбивает, так он за увечье ему каждый месяц платит, вроде по инвалидности. У меня, говорит, машины нет своей, дачи нет, а Крымов человек богатый, так пусть четыре тысячи выложит бедному, ежели виноватый, – и все полюбовно, чисто, замолчу я и вроде ничего не знаю, ничего не видел.
– Понятно, понятно. Четыре тысячи?
Молочков пренебрежительно закряхтел, перебирая на руле цепкие пальцы, и заговорил непривычно черствым голосом:
– Я ему и сказал, дураку: «Ты что же, ограбить намерился хорошего человека? Четыре тысячи! Для чего тебе четыре тысячи? Пропьешь ведь без толку, курья голова! Ты и пятьсот рублей никогда в кармане не держал. И не боишься мне такое болтать про тысячи, а?» А он все рассчитал, умный дурак оказался. «Мы, – говорит, – вдвоем с вами, свидетелей нет, никто не слышал, что хочу, то и говорю, шито-крыто, а я четыре тысячи прошу законно, пусть даже три, и знать ничего не знаю». Вот выставилась какая стерва, а?
– Значит, четыре или три тысячи? И все будет в порядке?
– Три просит после моего разговора, гадюка бессовестная.
– А не много, Терентий? Как думаешь?
– Как язык только у алкаша поворачивается! – заговорил с ядовитой улыбкой Молочков, возбуждаясь, нервно взглядывая на Крымова из-за вздернутого плеча. – И еще меня в посредники взял и не боится! Пустой он, никудышный человек, а опасный. Да с него и спрос-то какой – как с чурбана, а сдуру навредить крепко может! В народе умно говорят: не тронь дерьма – аромата не будет. Эх, Вячеслав Андреевич, некрасивое это дело, глупое, а аромат-то нюхать не хочется. Отдали бы вы ему, что ли, эти деньги, пусть подавится, только бы запах не распространял! Шут с ними, с деньгами, они, деньги-то, – дело наживное, а свое спокойствие дороже, ей-богу. Одних нервов с вонючим глупарем потратишь на десять тысяч!
– Да, одних нервов потратишь на десять тысяч, – повторил Крымов в тон Молочкову, как будто безучастный к тому, что он говорил, но вместе с тем злое отвращение душило его, и сразу все предстало непереносимо противным: этот убедительно размышляющий голос Молочкова, его пряменький возмущенный затылок, его презирающая глупаря Гулина улыбка; и вновь кто-то, умудренный скорбью опыта, терпким неверием, навечно обреченный в его душе на одиночество, на понимание тщетности всего, что желало, хотело, жаждало, неустанно интриговало вокруг, сказал ему тоскливо: «Ну, для чего это? В чем смысл этой жалкой лжи? Получит он три тысячи – а дальше что? Наступит в его жизни райская благодать? Купит бессмертие?» И кто-то другой в его душе, не желающий ничего взвешивать на весах горькой мудрости, возражал непростительно и недобро: «Каким же образом ты влез в такую грязь? Вини свою наивную веру в то, что все перемелется!»
– Терентий Семенович…
– Аиньки? Слушаю вас, Вячеслав Андреевич.
– Ах, спасибо тебе за милое бабушкино «аиньки». Как ты хорошо это сказал!
– С любовью к вам…
– Спасибо, спасибо. А скажи, пожалуйста, Терентий Семенович, – проговорил шепотом Крымов, вплотную наклоняясь к уху Молочкова, и поощрительно тронул его за плечо, – а как вы решили разделить сумму? Тебе две с половиной, а Гулину пятьсот? Или иначе – Гулину тысячу, а тебе две? Это, знаешь ли, мне очень важно.