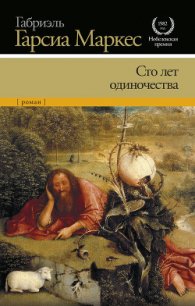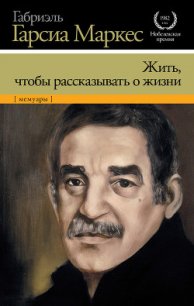Грифон - Конде Альфредо (книги полностью TXT) 📗
Целая вселенная рогатых жуков, – присмотревшись, их можно было обнаружить снующими в листве вечерней дубравы, – их удивительные рога, гибкие и блестящие, хватаются за угасающий, меркнущий свет, уходящий в сторону моря, куда-то вниз, за реку цвета черненого серебра; а другая вселенная – сверчков и цикад – эхом вторила первой, но их «крр-крр-брззз, крр-крр-брззз» звучало так тихо, что позволяло внимать безмолвию воздуха, также струившегося в океан; и обе эти вселенные, сливаясь поразительным образом в памяти Посланца, порождали ту печаль, о которой мы ранее говорили. Эти два чудесных мира возникали обычно в его душе в такой вот предзакатный час, их порождали прожитые годы и, несомненно, та половина его существа, которая всегда одерживала в нем верх.
Но непросто было ему вспомнить, вернее, снова прочувствовать сердцем, названия птиц, холмов, речных излучин да и самих рек. Может быть, это птичий щебет увлек его так далеко, туда, куда его манило сердце; и он вдруг оказался в Отене [11], на востоке Морвана, в долине Арру с ее угленосными почвами и страшным прошлым – и не в то ли самое время, когда возводили часовню Святого Лазаря или когда он вдруг увидел себя (ужасное воспоминание!) на соборной фреске, изображающей Страшный суд, среди нагих мертвецов, вылезающих из могил. Надо признаться, впечатление было не из приятных, но ведь там увековечен не столько его лик, сколько момент истории, составляющая его бытия, утверждение его пути; ведь это он – один из голых паломников, не тот, у кого сума отмечена крестом Иерусалима, хотя он вполне мог быть и им, а тот, на чьей суме раковина, символ пути, ведущего на край света, в землю дождей и туманов, которые, как уже бывало не раз, стучались теперь в его сердце, наполняя его тоской и слезами. О, сердце паломников!
Странное существо этот Посланец: от воспоминаний у него перехватывает дыхание и он готов разрыдаться. Правильно говорил Герофил, добрый друг из незабвенных книг детства: «Ты безумец, приятель, потому что разум ведь располагается в голове, а не в сердце, но твой разум так сердечен, так сердечен!…» Вот что говорил ему Герофил из безмолвия прошлых лет.
Когда птичка в Эксе выводит свои трели, в них нет услады, и в звуках, летящих по воздуху, не слышно нежности, может быть, потому, что здесь нет той влаги, которую дарит море и хранят берега его далекой страны. Птичка выводила свои трели, и слушавший понимал, что пение ее бесконечно, изначально бесконечно, беспредельно в чередовании звуков, которые, падая, словно скользят по девственно чистому прозрачному стеклу. Да, пение птиц здесь было иным. Там, на краю света, оно не скользило бы ни по стеклу, ни по воздуху, оно бы плавно опустилось на листья и вернулось обратно тем же путем: в этом лабиринте древних дорог не только пение птиц, но и любая другая песнь обязательно вернется к тебе, возможно, потому, что воздух там напоен влагой и звук, приглушенный росой, замирает в ожидании тишины; а когда она, эта тишина, наступит, то у нас не захватит дух, и безумные наши грезы развеются, и нам не надо будет призывать призраков.
Вода делает тебя свободным, а солнце сводит с ума. Несчастны народы, раболепно поклоняющиеся солнцу, единому божеству, вселяющему ужас и беспредельно властвующему над временем; птицы прячутся от него, чтобы свободно петь свои песни, которые они дарят нам, когда нет дождя и вода покидает нас. Несчастны народы, лишенные птиц и деревьев; рабы солнца, обреченные на безмолвие. Ни воды, ни птиц. Безмолвие. Только безмолвие. Безмолвие как судьба.
Птичка смолкла, и Посланец оторвался от созерцания воды; впрочем, это было нетрудно: наступила ночь и почти ничего уже не было видно; луна еще не взошла, а Посланец не обладал зрением кошки, Божьей твари, которая, как известно, считается домашним животным, но мы-то хорошо знаем, какова она на самом деле, чертовка! – хотя и не будем говорить здесь об этом. Итак, Посланец оторвался от созерцания воды и направился на юго-восток, по улице Адамс, но вскоре свернул налево, прошел немного, теперь уже на северо-восток, затем вновь свернул направо, на юго-восток, на улицу Кампра и вышел наконец на ту, которая сегодня могла бы носить его имя, но до сих пор не носит его по не вполне понятной причине; дойдя до ее середины, как раз до угла, который она образует с улицей Жибелен, он поднялся на четвертый этаж дома, о котором придется рассказать отдельно.
Взобравшись по крутой лестнице – мы не будем ее описывать, – он открыл дверь и очутился в чем-то вроде кухни: прямо перед ним горел неярким пламенем небольшой очаг, никогда не видавший не то чтобы дубовых поленьев, но даже и сучьев; однако благоразумие требовало от нашего поклонника дождя принять все как есть.
III
Закрыть глаза после того, как ты долго и пристально смотрел в другие, гораздо красивее и нежнее твоих, – в этом, разумеется, есть свое очарование, но здесь же таится и опасность. «Представь себе, – сказал он ей и тут же принялся фантазировать, – что в любой момент, стоит только его позвать, перед нами возникнет наш друг Грифон». Он сказал это по бессознательной оплошности человека не отдающего себе отчета в том, насколько несовместимым является мир людей, думающих сегодня так, а завтра совершенно иначе, с миром тех, кто сохраняет в течение целой бесконечности дней одни и те же идеи, взгляды, стойкие фанатичные убеждения, причем расплачиваться за такое постоянство приходится обычно не им, а тем олухам, которым они эти идеи внушили. И вот теперь два таких несовместимых мира проводили вместе летний вечер вблизи провансальского шоссе, где было достаточно и слепней, и цикад, и, возможно, даже лягушек, хотя в то время они и не квакали. Да, закрыть глаза – это опасно, особенно если ты достаточно смел, чтобы броситься в бездну других глаз, которые, словно океан, только этого и ждут – глубокие, таинственные, зовущие и холодные. Такова жизнь, и ничего тут не поделаешь!
Он приехал в Прованс этим летом, чувствуя, что зашел в тупик, и оправдывая себя тем, что здесь, как ему казалось, он сможет вновь нащупать кончик нити и распутать клубок, который уже тысячу лет прятался где-то в неведомом уголке его сознания. Находясь на вершине творческой зрелости и в расцвете физических сил, часто наступающем к пятидесяти годам, он вдруг ощутил, что источник его вдохновения иссяк, и теперь он нахально кочевал из университета в университет, разглагольствуя перед молодыми людьми все о тех же глубокомысленных банальностях; но у него было завидное преимущество перед своими слушателями: он нисколько не верил в то, чем спекулировал, а молодежь, в силу неопытности своего нежного возраста, внимала его бессмысленным рассуждениям с наивностью, свойственной идеалистам, то есть людям инертным и совершенно беззащитным.
Итак, после пятидесяти вся его деятельность сводилась к следующему: ежедневно разглагольствовать, болтать глупости и одновременно искать утешения в романе с какой-нибудь девицей из тех примерных учениц, что всегда можно встретить на высокоумных факультетах словесности. Этих девиц, не слишком-то счастливых, но всегда ярких, привлекали его остроумие, его деликатность и даже его непостоянство, оправдывавшее эфемерность подобных отношений. Хотя, справедливости ради, следовало бы отметить, что их привлекал также и ореол, – его с такой легкостью умеют находить поклонники чего бы то ни было. И полученное образование, и среда, в которой они вращаются, – все это побуждает женщин такого типа сопровождать как рокеров в их рискованных гонках, так и писателей в их творческих неудачах.
Он чувствовал себя опустошенным и злоупотреблял собственной историей. Во всех странах есть пятидесятилетние писатели, живущие в оковах однообразной скуки, будучи не в силах вырваться из плена образов, созданных своим или чужим воображением и превратившихся в чудовищ; в результате все сводится к упорному и монотонному повторению одной-единственной истории, предстающей во множестве форм и обличий. Но не у всех писателей есть такая страна, как у создателя Грифона, – маленькая страна с непризнанным языком и никому не известной историей: такие страны метят, словно вериги, и, как вериги, они доставляют одновременно и наслаждение, и боль. Ему тоже хотелось бы упиваться собственным прошлым и рассказывать о себе под музыку Баха; но он не был уверен, сможет ли его маленькое европейское захолустье и язык, на котором едва ли говорят пять миллионов человек, считая рассеянных по всему миру эмигрантов, послужить основой для беллетристики, состоящей из буржуазных рефлексий, книжных ассоциаций и игривых пикантностей, изобилующих в литературах, которые он хорошо знал и любил. Чудо Зингера [12], писавшего на таком языке, как идиш, и достигшего бесспорных художественных вершин, несколько примиряло его с литературой, но вызывало враждебность к собственной стране. «До нас никому нет дела!» – говорил он себе с досадой, упорно продолжая с трогательной и наивной преданностью писать статьи для зарубежной прессы на своем никому не известном деревенском языке, чтобы тут же самому переводить их на языки, живущие или худо-бедно существующие рядом с его родным. Несомненно, это была верность влюбленного.
11
Отен – город в восточной части Франции, в департаменте Сона и Луара, на реке Арру.
12
Зингер Исаак Башевис (1904 – 1991) – еврейский писатель, лауреат Нобелевской премии (1978). Родился в Польше, с 1935 года жил в США