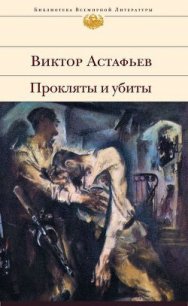Вимба - Астафьев Виктор Петрович (лучшие книги txt) 📗
Торжественное, может, и неловкое молчание охватило нас. Мужчины же хоть и разных национальностей, да одинаково стесняемся душевных излияний. Может, Гарий думал в ту минуту о родственнике, живущем в Австралии. Он хоть и чемпион мира, живет небедно, судя по дорогим крючкам, маркам, мечтает, однако, хотя бы быть похороненным «дорогая, любимая родина».
Чтоб заполнить неловкую паузу, от благодарности к моим попутчикам, к этой реке, одарившей меня добычей, доставившим мне радость общения еще с одним уголком нашей многоверстной терпеливой земли, я стал хвалить латышей за трудолюбие, за опрятность и честность, за то, что на такой скудной, каменистой почве умудряются они выращивать хорошие урожаи. Гарий ушел в палатку, под черемуху. Он все-таки думал о родственнике, живущем в Австралии, — заключил я про себя, — и не только о нем.
Володя разобрал сиденья в машине, наладил постель, пригласил меня спать, но я сказал, что хочу посидеть у огонька, и он оставил меня в покое. Подживляя огонек, я полулежал на раскинутом пледе, смотрел, думал, ждал теплого утра. И было мне покойно на душе и немножко сладко и слезливо от той все утишающей грусти, которая лучше всяких лекарств лечит сердце от раздражения. И думалось, что земля наша едина, и соловьи поют всюду, где они есть, во славу мира и любви, наверное, и в Австралии поют то же и так же, но как тогда мы умудрились разделиться не только по языкам, но и по нравам, точнее, по кем-то и зачем-то внушенной норовистости, и каждый, или почти каждый, считает себя лучше другого, да вот его-то самого-то кто-то тоже считал или считает хуже себя, и должно доказать на кулаках, что это не так, что все совсем наоборот — своротит брат брату скулу набок и удовлетворится превосходством хотя бы в мордобое.
Незаметно и согласно я утих в себе. Вкрадчивая благость овеяла меня запахами наутреннего, еще сонного цвета и растущей, набирающей силу травы. Река была покойна и вроде бы нетороплива, ничто не тревожило ее высвобожденной от тумана глади — ни рыба, ни птицы, даже крякаш в болотах перестал браниться, уснул, видать, положив голову себе под теплое крыло или на шею мягкой и доброй подруги. И она перебрала, причесала, смазала жирком каждое яркое перышко на его беспутной и чудо какой красивой голове.
Под пенье соловьев, под шелест полузатопленного ивняка, шевелимого убывающей водой и торопящегося с листом, под шипенье смирного огонька, золотым оком светящего в мировые бездонные пространства с этой доброй земли, наутро совсем усмирелой и мудро печальной, с этого цветущего бережка одной из бесчисленных рек планетки нашей, пока единственной для нас, уснул я незаметно и проснулся от солнца, неназойливо и шаловливо шевелившегося на моем размягшем лице.
Соловьи почти унялись, пели разрозненно, редко, как бы по обязанности. Рыбаки снова сидели каменными изваяниями на противоположном берегу и сторожили закидушки с колокольцами. Скоро проснулся Гарий, мимоходом брякнул лапищей в машину так, что она задребезжала всем железом и качнулась на колесах. Володя привидением взнялся с сидений, в панике подскочил за отпотелыми от дыхания стеклами, ударился в потолок машины и, схватившись за макушку, погрозил другу своему кулаком.
Я спросил Гария, зябко передергивающего плечами и зевающего во весь рот, — не мешали ль им соловьи? Он тупо уставился на меня:
— Какие соловьи? Ты чьто? — И, придя в себя, махнул рукой: — А-а, соловьи! Не тревожьте солдат, да? Комары нас тревожили. Как это у Коли Глазкова? — «Все неизвестности любви нам неизвестны до поры. Ее кусали муравьи, меня кусали комары!..»
Утром Володя добыл еще пять вимб. Гарий со словами: «Совесть иметь?» — выжил меня с моего добычливого места, выдернул там четыре рыбки. Я поймал всего лишь пару вимб, но зато рыбины были крупнее остальных, и спутники мои сказали, что я не напрасно имею название — «сибирьак».
Очень всем довольные, прикатили мы в Ригу. Где-то на окраине, похожей на все окраины современных городов коробками серых домов, мы высадили Рениту, она что-то по-латышски сказала Гарию, он лениво ей ответил: «Да, да, конэчно», и, послав всем воздушный поцелуй, орезвевшая на природе Ренита проворно стриганула в подъезд, обсаженный кучерявым кустарником, и более не оглянулась — дома ее ждала «оч-чень строгий мама, до сих пор сапрешшающий ребенку кулять слишком поздно…»
Володя отдал нам всю добытую им рыбу, сказав, что ему возиться с нею не хочется да и на работу надо. Тут только я узнал, что Володя — убежденный старый холостяк. Он хотя и прощал Гарию его мужские вольности, однако в глубине души не одобрял его, но, давно и по-братски привязанный к нему, по-братски же помогал и семье, и другу, относился к нему, как к неразумному дитю, которого нужно журить, но и оберегать надо от всяческих напастей.
Гарий с удочками и с садком, набитым рыбой, шел по улице, и почти каждый встречный латыш останавливал его, восторженно вертел и нюхал садок, причмокивал языком, всплескивал руками.
Гарий охотно останавливался, хвастался, кричал громче всех, из всего ора я различал лишь — «Вимба!». Половина Риги, во всяком разе центр столицы Латвии, был взбудоражен и сбит с равномерного движения.
Возле большого фирменного магазина Гарий замедлил шаги и, глядя в сторону, поинтересовался — есть ли у меня деньги? Получив червонец, он сверкнул затуманенными было сном и усталостью глазами, разом пробудившимися, — «Одна минута!» — и исчез за тяжелыми старинными дверьми, на которых что-то было написано по-латышски, судя по цифрам, часы работы.
Не было Гария долго. Я сморился на солнце у каменной стены, на нагретом тротуаре, подремывал стоя и меня толкали прохожие, ругаясь на непонятном мне языке.
— Всегда, когда быстро нужно, много-много народу! — возмущенно закричал Гарий, облитый потом, вывалившись из магазина. — Извини, пошалуста.
На спиннинге, который мы так и не вынимали из связки удочек, болтался обрывок лески, и не было посеребренной, почервленной блесны, присланной, как говорил Гарий, тоже из Австралии его родственником-эмигрантом. Я поинтересовался — где же блесна? Гарий сердито сообщил, что на нее в магазине поймалась «шэншына».
— Как поймалась? За что? — остановился я, ошарашенный, посреди тротуара.
— Как, как? Са шопу поймалась! Вечно эти шеншыны лезут куда попало и цепляются за все! — ругался Гарий. — На эту блесну рекордно брала шшука — и вот…
Он, Гарий, тихо-мирно стоял в очереди в кассу. Удочки в руке — забыл их мне оставить, не выспался же, совершенно ничего не соображал. Потом пошел в отдел получить почки, — его жена так прекрасно готовит их. Потом он решил купить «тевочкам»-дочерям мороженое, поскольку еще оставались деньги, побаловать жену — взял пару апельсинов, чтоб не так стыдно было за ночь, проведенную «с друкой шэншыной на природа». И по мере того как он кружил по магазину, приобретал покупки и расталкивал их по карманам, в магазине нарастал гул возмущения, на который Гарий сначала не обращал никакого внимания, думая, что выкинули дефицит и народ волнуется из-за этого. И не сразу, конечно, но все же обнаружил, что покупатели опутаны леской и пытаются из нее выбраться. У одной женщины сзади на платье почему-то прилепилась блесна, и, присмотревшись, Гарий узнал свою блесну, потому что такая блесна всего одна не только в Риге, но и на всем побережье. Еще он обнаружил: почти вся леска, очень крепкая, дорогая, потому что у «моряков» купленная, с катушки смоталась. Ну что ему оставалось делать? Он вынул из кармана складник, обрезал леску и поступился блесной.
— Сто метров леска пропала! Блесна пропала! У-у, эти латыши! Чьто са нарот?
И ругался Гарий, и шумел, когда его останавливали знакомые, он продолжал ругать их, они не обижались, они хохотали, а Гарий пожимал плечами.
Дома он нежно поцеловал жену в щеку, показал улов, заявил, что устал невероятно, спросил, как здоровье девочек, велел спрятать в холодильник мороженое для них и очень уж заметно юлил, бурно выражая чувства. Обрадовавшаяся нашему приезду жена покачала головой: