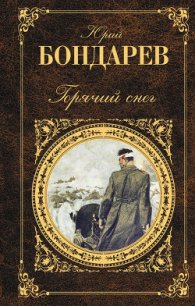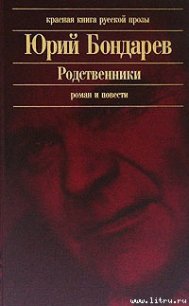Искушение - Бондарев Юрий Васильевич (читать полностью книгу без регистрации .TXT) 📗
– Мы с вами… бывшие родственники… и ни разу по душам не поговорили, – сказал Григорьев и виновато сморщил губы, – а все в спорах, в несогласиях… А когда была жива Юлия, вы тоже не любили меня. Вы считали меня за ретрограда, за архаизм.
– Наверно, есть что-то выше наших бывших родственных чувств.
– Юлии уже нет на белом свете, а мы с вами живем. Бедная, невезучая… Где теперь витает ее ангельская душа? И слышит ли она нас? Нет, мертвым не надо слышать живых…
Он молитвенно повел скорбными глазами по потолку. Дроздов нахмурился.
– Я не хотел бы сейчас говорить о моей покойной жене.
– Я о другом, голубчик. Я давно хотел о другом… Сегодня какой-то нехороший, печальный вечер… Как-то жутко, знаете, слушать вой ветра и дождь, – заговорил Григорьев и опять сложил губы в подобие виноватой улыбки. – Вы гораздо моложе меня, поэтому, понятно, смотрите на жизнь, как на бесконечность в пространстве и времени. Так было и со мной в ваши годы. Старость для вас – за семью печатями. Да и будет ли она? Приблизительно так, Игорь Мстиславович?
– Боюсь ответить однозначно, не хочу быть неискренним, – сказал Дроздов, еще не вполне чувствуя причину этого разговора. – Я уже давно не воспринимаю жизнь как бесконечность.
– Так вот что я хотел вам сказать. Старость – это одиночество пустых осенних ночей. И страх…
– Страх? – усомнился Дроздов. – Простите, Федор Алексеевич, не понимаю.
– Да. Страх, – подтвердил Григорьев, с усталым отвращением откладывая в сторону очки, как будто невыносимо надоевшие ему. – Ожидание скорого наказания. И Судного дня. Помните, у Белого? «Меня несут на Страшный суд…»
– Наказания?
Григорьев молчал, отсутствующе и грустно глядя на незашторенное окно. А там по-ноябрьски свистал, наваливался, ревел в голых липах бульвара ветер, по черному стеклу колотил дождь, звонко бил по карнизу, огни улицы расплывались, текли световыми извивами; изредка внизу отсырело шелестели шины в мокрой асфальтовой бездне. С выражением тихой вины Григорьев прислушивался к гудению ветра, к плеску дождя, и впервые отчетливо проступило что-то вялое, старческое в складках его шеи, сжатой накрахмаленной белизной воротничка с аккуратным старомодным узлом галстука, и заметен был слабый белый подбородок, и отливающие опрятной сединой волосы, уже редкие, тщательно зачесанные.
– Наказание кого? – повторил Дроздов, нарушая молчание.
– Всех нас. Почти по Откровению от Иоанна. Апокалипсис ждет нас. И казнь.
– Но… за что?
Григорьев оторвал взгляд от окна, утомленно заговорил скрипучим голосом:
– Я часто думаю в старческую бессонницу: кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? Где кончится наш человеческий путь? Во имя чего мы так нагрешили? Ради чего испакостили, изнасиловали землю? Во имя чего?
Дроздов иронически сказал:
– Во имя человека, как мы утверждаем. Во имя человека мы надругались над родимой…
– Не смейтесь, Игорь Мстиславович. Мы не пришли в науке туда, куда шли в начале века. Не заблудились ли мы? Дико то, что от древних времен и до наших дней все преступные… все зловещие дела делались под знаком блага человека и даже народа. Какой обман! Да, обман. Но это уже политика – внебрачное дитя истории. Кто ее отец и кто мать? Узнавать небезопасно.
– По-видимому – власть и желудок, – сказал Дроздов. – Впрочем, уверен: плохой или хорошей политики нет. Есть просто политика. Где много грязи. И лжи. И есть наука, где отсутствует научность.
– Наука? Политика?.. Порой мне кажется – мы в тупике, мы жалкие…
Григорьев облокотился на стол, прижал узкие ладони к вискам и долго сидел так, опрятный, сухонький, вглядываясь в окно с горьким вниманием крайне переутомленного человека, то ли серьезно больного, то ли измученного длительным внутренним страданием, и эта не скрытая сейчас душевная боль не то чтобы удивила Дроздова, а вызвала настороженное любопытство. Помимо совещаний, их ни разу вот так в кабинете не соединял ни поздний вечер, ни дождь, шумевший на бульваре, ни яркий свет настольной лампы, обнажающий нездоровую серизну старых морщин на висках Федора Алексеевича, нежданно заговорившего о том, о чем он избегал один на один говорить со своим заместителем.
– Что-то мы с вами не так… – еле слышно продолжал Григорьев, устало смыкая веки. – Мы с вами месяц назад разрешили вырубить пятнадцать тысяч гектаров заповедного уральского леса под Бирском. Погубили реликтовые породы деревьев. А мы хорошо знали, что построенное здесь водохранилище войдет в строй только через пять лет и вряд ли обеспечит город водой. Средняя глубина четыре метра. Эта же вода негодна для питья. А денежные затраты – тридцать восемь миллионов. Преступление, преступление…
– Месяц назад вы были другого мнения, – сказал Дроздов, силясь сдержать досадливый упрек. – Этот проект отстаивали вы.
Григорьев, стискивая виски, заговорил с торопливым сопротивлением:
– А вы думаете, я и сейчас уверен в абсолютной истине? Я в отчаянье! Людям нужна вода. Ее требуют. Но – какой ценой? Где «быть»! Где «не быть»? Где гибель? Где спасение? Демагогия слова стала мерзкой! Погрязли в обещаниях и лжи! Нас обманывают, водят за нос, шантажируют, а мы – не наука, а политика умиротворения хищника! Знаете, кто хищник? Чиновники из Совета Министров! Проектировщики от ведомств! Лживые администраторы! Политика Мюнхена. Сегодня мы, ученые, разрешаем губить Байкал, Волгу и Днепр, завтра – поворачивать вспять северные реки, послезавтра – вырубить весь кедр, всю тайгу для выполнения мифического плана. А потом? Тьма, конец. Не земля, а лысая круглая пустыня. Но что делать? Как противостоять? Я не знаю, голубчик, не знаю. Я потерял ориентиры… Как жить?..
Он отнял руки от висков и с жалким бунтом интеллигентного человека, доведенного до исступления, ударил бессильными кулачками по краю стола, отчего седые волосы разрушенной прически упали на лоб беспомощным завитком, своей снежной чистотой покорно и обидно показывая слабость человеческой воли перед вседержительным напором административной власти. Он, Григорьев, был довольно-таки славен в научном мире, но периодическая податливость могучим инстанциям в Академии наук, нестойкость его и вместе тактическая глухота к сверхактивным доводам безудержных сил, неукоснительно озабоченных стратегическими государственными интересами, – всю эту неоднородность Дроздов связывал с осложненной биографией старика, принужденного в сороковых годах несколько лет прожить ссыльным в казахстанских степях, вдали от науки. Связывал он с этим и его непоследовательную порывистость – от сопротивления к безразличию, и запоздалое возвращение в академики, и «голубую кровь», а в сущности разрушительную его нетвердость, которая раздражала особенно, и Дроздов сказал:
– Вы спрашиваете, что делать? Я уверен, Федор Алексеевич, что к гибели человечества ведет не зло, а доброта и беззубость.
– То е-есть? – протяжно выговорил Григорьев и отшатнулся в кресле. – Бога – на свалку, сатану – в кресло. Да здравствуют саблевидные, зубы и костистые кулаки? Утверждать истину дроблением носов и челюстей? Аргументировать скуловоротами? Я растерян от ваших слов… Как это должно понимать, Игорь Мстиславович?
– Так точно, – ответил по-армейски Дроздов с опьяняющей решительностью. – Только так. Если мы хотим немного уважать науку. И чуть-чуть себя. Посылать всех хищников, прожектеров и дуроломов из министерств и управлений подальше!
Со страдальческой гримасой Григорьев расстегнул пуговичку на жестком воротнике под старомодным узлом галстука, бескровные губы его собрали морщинки боли.
– Знаете, иные слова в мирное время подобны выстрелам… Вы стреляете в меня. Не смею отрицать. Вы смелее меня, современнее, героичнее.
– Вот уж, простите, чепуха! – не согласился Дроздов. – Если бы мне хватило героичности, я бы упразднил наш институт как сборище аплодисментщиков и дилетантов! Потому что многим улицы подметать надо, а не экологией заниматься!
– Игорь Мстиславович, вы все же экстремист. – Григорьев огорченно свел худые руки под подбородком. – Стало быть, вы за крутые повороты? Но разве вы всегда видите только непогрешимую правду?