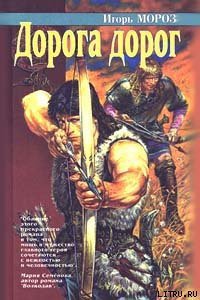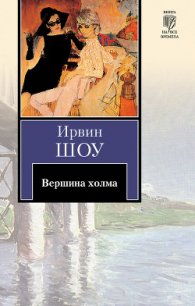Утешитель - Адамацкий Игорь (читать полностью книгу без регистрации .TXT) 📗
– Где же прочие жители? – спросил К. М., наполняя чайник под ржавым краном. – За два месяца я не встретил ни одного соседа, кроме вас.
– В квартире больше никто не живет, только вы и я, – простодушно ответила П. П. – Комнаты заколочены. Дом умирает.
– Веселенькое дело. Дом умирает. Город умирает. Мир умирает. Вселенная умирает. Есть от чего обрадоваться.
– Где-то там строят новые дома и новые районы. – П. П., улыбаясь, легко и небрежно повела рукой. – Там живут люди. Мне рассказывали. Это какие-то совсем, совсем другие люди. Выведена новая специальная порода людей с помощью генной технологии.
– Вы бывали там? – спросил К. М., ставя чайник на газ.
– Зачем?
– Как же, любопытно…
– Любопытно – куда? – спросила П. П.
– Ну вот, – сказал К. М., разглядывая эту бывшую женщину, обладавшую когда-то и гибкостью, и темпераментом, и острым языком. – Мы с вами говорим третий или четвертый раз, и во всяком разговоре вы задаете мне загадки…
– А вы разгадывайте, – беззвучно смеялась она, – вы современный, ученый, шустрый. Ловите, как сейчас говорят, кайф даже там, где ничего, кроме заразы, не поймать…
– Это не про меня.
– Все равно все вы смешные, современные людишки. У вас желание расходится со словом, слово расходится с поступком, поступок – с судьбой, и в результате от всего остается некий хлипкий, пустой пшик.
– Ого! – удивился тираде К. М.
– Не ожидали? – смеясь, спросила П. П. – Думали, этакий шизнутый одуванчик, весь в глюках?
– Нет, зачем же? Догадывался, что иногда вполне взрослые люди, вроде вас, могут дать фору нам, не вполне созревшим, но все-таки… Чем вы раньше занимались?
– Преподавала историю, пока история не была для меня закрыта, затем преподавала философию, пока философия не была для меня закрыта, затем преподавала историю философии и закончила философией истории. Достаточно?
– Спасибо, я удовлетворен. Теперь понимаю ваш вопрос про «любопытно».
– Да, – спокойно согласилась П. П. – Новое – не непременно лучшее. Это я про дома. Когда этот идиот, забыла имя, снизил потолки домов, через десять-пятнадцать лет выросло мелочное, ничтожное поколение. Новое – не непременно лучшее, чаще всего это реставрированная банальность. Вы не замечали, что банальности весьма живучи?
– Замечал и в себе самом.
– Вам повезло, – похвалила П. П. – Многие не замечают за собой.
– Вижу, мне дважды повезло. Я нашел собеседницу.
– Посмотрим… Если не станете обижаться на старуху. У вас чайник вскипает. Пойдемте ко мне пить чай? У меня варенье из одуванчиков еще с прошлой весны.
– В жизни не пробовал. Верно, страшно вкусно? Скажите, чем вы занимались в войну?
– Как все, – пожала она плечами, – занималась войной. Рыла окопы. Голодала. Старалась выжить, но не любой ценой. Так вы идете пить чай? В жизни не пила чай из такого грязного чайника.
Самыми замечательными предметами в комнате П. П. были две вещи – кровать и буфет. Остальное в меру старое, изъеденное жучком, с поблекшим, потрескавшимся и отваливающимся лаком. Кровать была также старая, но деревянная, широкая, прямая, так строго застеленная покрывалом стального цвета, что сюда, думалось, могли бы садиться игрушечные самолеты, если б им пришла неволя залететь. Буфет занимал всю стену в высоту и длину. Он не мог быть сюда доставлен, он мог только вырасти здесь, у стены, сам по себе. Весь дубовый, резной, в дверцах, в зеркалах и зеркальцах, в шкафчиках и ящичках, он, казалось, жил самостоятельно, отдельно и равнодушно ко всему, что его не касалось. Резные фигуры невиданных людей, мифических и полуреальных зверей, множество цветов различных форм и видов так плотно облепляли буфет, что он становился целым миром, достаточно осязаемым и живым, чтобы воспринимать его серьезно. А и клопов здесь, однако, подумал К. М.
– Неправда ваша, – отозвалась П. П., отодвигая от стола один из темных и легких гнутых стульев. – Садитесь, здесь удобнее. У меня нет ни одного клопа. Им нечем питаться. Зато живут два бродячих паука, вот такие. – Она, смеясь, показала сжатый кулачок. – Они живут в разных углах и не ладят, поэтому я отдельно каждому ловлю на кухне мух и откармливаю пауков.
К. М. сел, тараща глаза на странную старуху.
– А вы мыслите довольно банально, молодой человек.
– Я понимаю, – пробормотал он, – ваша философия истории…
– При чем тут философия? – отмахнулась она. – Просто вы не понимаете, что старики – как ни дико звучит – гораздо ближе к чувству новизны, чем молодые. Молодым только кажется все внове, но инстинктивно они тянутся к основательности, к традиции, к тривиальности. А из стариков, которым видимы пространства и ведомы начала и концы, из таких стариков могут выработаться крутые новаторы, авангардисты. Вот почему, войдя, вы подумали про клопов.
Она заварила чай во вместительном розовом чайнике с ручкой в виде змеи, тоже розовой, накрыла большой матрешкой.
– Старики намного опаснее, они жертвуют всеми и всем миром. Они направляют прогресс, а платят за него молодые. Вот такие дела, самаритянин.
– Почему самаритянин?
– Вас время от времени переполняет… как говорили греки, сплавхнизомай… сострадание.
– Вы угадали, Прасковья Прокофьевна, я нашел работу утешителя.
– Я вам не завидую…
– Почему? – с пафосом удивился К. М. – Наводить мосты между людьми. Устанавливать контакты между человеком и миром заблудшим…
– Ну да! Ну да! – прервала она. – Раньше за утешением шли к священнику, в церковь. Разве существует институт утешительства? – П. П. энергично поднялась со стула, достала из буфета варенье, светлое, желтое, как свежий мед, поставила тарелку с сухариками, сняла с чайника матрешку и стала наливать чай в голубые чашки. Чай просвечивал сквозь тонкий фарфор и был как вино, старое-престарое, темное, густое. – Сахар положите сами. И сухарики, пожалуйста.
К. М. положил сахар, помешал ложкой, попробовал сухарь, он был крепкий, духовитый.
– А вы стихов не сочиняете? – без связи с предыдущим спросила П. П. – А то, знаете, сейчас многие пишут стихи.
– Стихи? – простовато вторил К. М. – Это когда нормальную речь переводят в ненормальную рифму и ритму? Упаси Господь!
– Правильно, – одобрила П. П. – Стих и гвардия могут быть только белыми. Кстати, об абсурде…
– Не понял.
– Когда вы шли за мной по коридору, вы думали об абсурде. Люди, рассмеялась она, – думают об абсурде, глядя мне в спину. Непонятно, почему. Так вот. Есть теория абсурда. Есть концепция абсурда. Есть логика абсурда. И так далее. Вы знаете Канопуса?
– Впервые слышу. Какой-нибудь грек?
– Нет, – повела она плечами, – обыкновенный сумасшедший. Так вот. Он строит остаток своей жизни на абсурде. – П. П. рассмеялась с удовольствием, словно это она сама придумала и Канопуса, и все остальное. – Он пишет стихи в рифму и, как вы говорите, в ритму. Нашел себе двух старушек, бывших библиотекарш, и сочиняет на потребу, то бишь на заказ. Молодые солдаты заказывают ему письма в стихах для девушек. Приходят и официальные и даже признанные поэты, когда нужно заработать на виршах к праздникам и к разным великим датам.
– Какой же это абсурд? – подзадорил К. М. – Обыкновенное хобби… И много он берет за строчку?
– С солдат и школьников – по рублю. С популярных поэтов – по десятке. Блеск! Все, что вы можете прочитать в периодике и популярных журналах, сочинено Канопусом. Редко кто пишет самостоятельно. Да и зачем? Все равно все похоже на все.
– Действительно, – согласился К. М., – зачем?
– Вот с этого и начинается абсурд, – сказала П. П. – С вопроса «зачем?». Так и ваше предстоящее утешительство. Раньше посредник-священник отдавал право последнего утешения Богу. Вы считаете, что возможно человеку – утешать?
Они заспорили.
Буфет у стены слушал их разговор и мрачнел – высверкивал стекляшками и хмурился.
4
Утром следующего дня, расшифровав цифровой замок, К. М. отворил дверь, обитую рыжим дерматином, вошел в кабинет с одним окном и еще одной дверью, ведущей в подсобное помещение с рукомойником, туалетными приспособлениями и электрической плиткой на фанерной тумбочке, и понял, что происшедшее за минувшие сутки – почти настоящая жизнь, и она предъявляет обязательства и требует их исполнения с той серьезностью, на какую способен исполнитель. Это было крепкое ощущение, дающее ясность предстоящего дня, и исполнитель был сама серьезность. Он положил на стол рядом с телефоном пакет с завтраком, роман Льва Толстого, две пачки сигарет и осмотрелся.