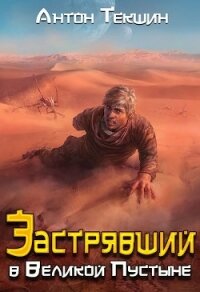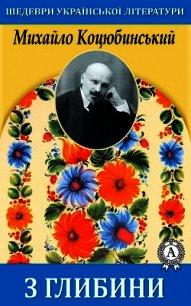Кто я для себя - Пантич Михайло (полные книги .TXT, .FB2) 📗
Помочь тут, да и то в некоторой степени, может только любовь.
Но что, если любви нет? Или же, как в случае с человеком по фамилии Жегарац, то нет, то есть, но ее всегда недостаточно? Грезит и дрожит Жегарац, на границе самозабвения, в гостиничном номере, в ожидании неожиданного визита, и тяжела ему не та мысль, что его не любит никто, а та, что его не любят все, как любили Хендрикса, потому что каждый хочет, чтобы его любили все. И хотя каждый, не задумываясь, скажет, что не любит всех и каждого, всем нам присуще желание, чтобы нас-то любили все. Но прямоходящие, то есть те, кто ходит на двух ногах, то есть люди, в той же мере, что и страусы или кенгуру, свободны от обязанности любить всех и каждого, и они лихо пользуются свободой такого рода. Именно в этом и проявляется какой-то сущностный дефект — не любим каждого, любим, чтобы нас любили все, — и этот дефект, суетность мира, никак не поддается устранению. К нему мы не можем привыкнуть, не можем с ним смириться. Здесь корень всех наших несогласий, и с самими собой, и с миром.
Любовь — это истина, безусловно. Жегарац, раздумывая в тот вечер о том, кто и как его любит, но только на самом деле любит — и не найдя ответа, есть ли вообще кто-то еще, кроме Тани, а это все-таки представляет собой любовь заданную от природы, а не благоприобретенную, — пришел к пониманию, что любовь — это истина. А если и не так, то должна была бы ею быть. Но от такой умной мысли лучше ему не стало, отчаяние не устранить усилием воли, никто не может приказать самому себе не быть в отчаянии. В том числе и он. Он продолжал сидеть, а точнее лежать одетым на кровати в гостиничном номере, уставившись в телевизор с выключенным звуком. Та самая актриса упорно продолжала что-то объяснять тому самому актеру, которому никак не удавалось вставить слово, и по жестикуляции можно было заключить, что их разговор, а скорее ее монолог в присутствии другого, все-таки постепенно перерастает в ссору. Наташа никогда не ссорилась, с годами она становилась все более отсутствующей, равнодушной, так что и без того едва теплившееся между ними электрическое взаимодействие со временем совсем исчезло.
Да, любовь — это, наверное, что-то истинное.
Но истина — не любовь.
Жегарац до того вечера обо всем этом так серьезно не думал, если вообще когда-либо об этом задумывался. Он просто-напросто жил, как живется, стараясь не делать зла, нанизывал один за другим дни, вставал, шел на работу, возвращался с работы, включал телевизор, ужинал, спал — и так бесконечно. Постоянно трясясь от озноба. Однако всегда наступает день, или вечер, или минута, когда человек приходит в себя — так распоряжается жизнь. Обычно где-то лет около сорока опыт начинает сгущаться, что не так уж и страшно, но с этой поры желания любого свойства постепенно охладевают, и это переносится уже гораздо тяжелее, порой даже кажется невыносимым, и Жегарац это почувствовал. Жизнь больше не такая пестрая и многообещающая, как некогда, все идолы-гитаристы или мертвы, или превратились в карикатуры на самих себя, а ходить на концерты новых групп, толкаться среди детей, Таниных сверстников, глупо. Он ничего больше во всем этом не понимает, никакой музыки, одни компьютеры, миксы, семплы, ритм-установки… Дошло до того, что лучшими считаются те, кто лучше выглядит, кто лучше упакован, и всем безразлично, умеет ли кто-нибудь из них играть или не умеет, да, вообще-то говоря, после Хендрикса вряд ли найдется кто-либо, играющий по-настоящему.
Тяжело…
А истина? Истина должна расти, чтобы стать любовью, чтобы достичь ее. Однажды. Или никогда. Чаще всего — никогда.
Жегарац не умел себе объяснить, что происходит с любовью, которая, как в его случае, не реализовывалась до конца, куда она девается. Или не девается никуда, а так и остается внутри нас. Нет, он не думал о такой любви, которая никогда не осуществится, которая длится вечно, точнее сказать, тлеет в неких далеких уголках души, с краю, в облаках. Не думал он и о невероятных влюбленностях, самых болезненных тогда, когда они взаимны, но не могут по каким-то причинам пробиться в явь, на поверхность. Тогда наступает осознание свинцово-тяжелой невозможности — самого тяжелого и самого бессмысленного чувства, когда не имеешь чего-то и не можешь иметь, а так бы хотелось, и это не менее сильно, чем любое обладание. Но все осталось в мыслях Жегараца где-то на полях, потому что он постоянно видел перед собой себя и Наташу.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})В тот вечер в гостиничном номере, наверху, над миром, придавленный чем-то, не имеющим имени, какой-то безвыходностью, дрожа, он казался себе другим, носящим чужое имя и лишь якобы присутствующим в жизни. Вот родился, ну так живи. И еще он казался себе движущимся к некой предполагаемой полноте, а она предстает перед ним пустотой, полулюбовью, состоянием ни здесь ни там, а вблизи чего-то, что на самом деле очень далеко. Да, все дело в том, что перед ним именно эта, состоявшаяся полулюбовь, как Наташина, так и его, а такая любовь, призрачная и слабая, рано или поздно исчезает, выветривается сама собой, по какой-то причине или без нее, которую можно или нельзя обнаружить, не так уж и важно. Причины — это слабое утешение и еще худшее оправдание для неминуемых последствий, тут мало что можно понять, так что над этим не стоит и задумываться, потому что, когда думаешь о том, чего не можешь осознать, возникает отчаяние, чувствуется дыхание ледяной пустыни. Может и не самая большая, но самая существенная часть нас не поддается объяснению словами, она недоступна, принадлежит миру непознанного. Отчаяние, эта тяжелая зябкая дрожь, предупреждало его о безграничности неосвоенного в душе пространства, неосвоенного ввиду недоступности, не имеющего имени, которое мы тем больше чувствуем, чем меньше его осознаем, воспринимаем как некое нечто, как Жегарац. В нем по поверхности плавала сотня пустых островов, которые никто никогда не заселит и которые никак нельзя друг с другом связать. Однако ужас держал их вместе…
В дверь постучали.
Жегарац встрепенулся. Встал, пошел к двери. На миг заколебался, открыть или сделать вид, что уже заснул или вышел, но все же взялся за дверную ручку. Открыл. На пороге стоял жираф — не очень-то молодая женщина, красивая, от тридцати до сорока, высокая, почти как Жегарац, она смотрела ему прямо в глаза. На ней был великолепный светлый костюм цвета ванильного мороженого и туфли на очень высоком каблуке. Выглядела она так, будто пришла прямо с торжественного приема, и не будь в руках у нее толстобокого, массивного кожаного медицинского саквояжа, никому бы не пришло в голову, что она занимается массажем.
— Добрый вечер, — сказал Жегарац совершенно спокойно, лишь в первый момент в нем пробудилось любопытство: что же последует дальше.
Женщина улыбнулась, без единого звука, как обычно и делают люди при первой встрече, и рукой показала на свое ухо. Потом приоткрыла рот и испустила какой-то горловой хриплый вздох, из которого ничего нельзя было разобрать. Когда она все это повторила еще раз, Жегарац понял: она глухонемая.
— Понимаю, — проговорил он растерянно, на что женщина осторожно взяла его подбородок и потянула к себе, так что теперь они стояли очень близко, лицом к лицу. Она несколько раз открыла и закрыла рот, прикоснулась к губам указательным и большим пальцами, расставив их наподобие латинской буквы V, направленной к глазам, что должно было означать, что она умеет читать по губам. Улыбка все это время не покидала ее лица, и, когда Жегарац немного отступил в сторону, она перешагнула порог комнаты. Тут же сняла пиджак и сбросила туфли, ловким движением стянула юбку и осталась в черном белье, ее кожа блестела в полумраке комнаты, в котором подрагивали отблески света с экрана телевизора. Жегарац наблюдал за всем, не сводя глаз, чувствуя, как в нем нарастает волна неконтролируемой страсти, той, которая возникает всегда, когда женщина, знакомая или незнакомая, совершенно не важно, обнажается перед мужчиной.
Без лишних движений, по-прежнему с улыбкой, как будто бы на ней маска, она потеснила его к смятой кровати, помогла расстегнуть брюки, спустила их до середины бедер, и через несколько секунд он уже стал расти в ее свежем прохладном рту. Она работала языком, зубами и пальцами точно, как хирург, подняв глаза, в которых ничего нельзя было прочитать. Потом остановилась, потом продолжила и снова остановилась, заползла ему на живот и села верхом. Жегарац отдался ее равномерным, все более сильным рывкам, извлек из ее лифчика две полные, похожие на груши груди с набухшими сосками и, охваченный страстью, почувствовал, как отчаяние и зябкость в нем тают, подобно тому, как тает на огне свинец. Он думал о сотне вещей одновременно и ни об одной отдельно, и в тот момент, когда он погрузился в иррациональное состояние, под опущенными ресницами ему привиделась только начавшая созревать грудь его дочери.