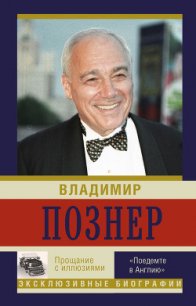Толчок восемь баллов - Кунин Владимир Владимирович (читаем бесплатно книги полностью .txt) 📗
— Женя, не мучайте меня. Какой участок? О чем вы говорите?
— Нина… Уедем, Ниночка!
— А мама? А девочки?
— И маму с собой! Она там поправится. Будем выносить ее в садик. Там цветы…
— Да ну вас к черту, Женя! Зачем вы меня терзаете…
— Я?! Да я умереть готов…
— Ну что вы, родной мой!.. Что вы такое говорите!.. Я так от этого отвыкла, так уже было успокоилась, а вы…
— Милая! Милая!.. Любимая моя… — Евгений Анатольевич нежно целует Нину Елизаровну и никак не может расстегнуть верхнюю пуговичку ее платья.
В помощь Евгению Анатольевичу она сама расстегивает две верхние пуговички и расслабленно шепчет:
— Женя, ну что ты делаешь?.. Я же тоже живой человек…
— Ниночка…
— Ну подожди, подожди… — не выдерживает Нина Елизаровна. — Господи, там же мама за стенкой! Ну подожди, я постелю хотя бы!
Она выскальзывает из объятий Евгения Анатольевича, достает из шкафа постель, быстро расстилает ее на диване, сбрасывает с себя платье-халатик и ныряет под одеяло.
Ошеломленный быстротой ее действий, Евгений Анатольевич три секунды стоит столбом, а потом, потрясенный, еще не верящий в свое счастье, сбрасывает туфли и начинает лихорадочно стаскивать с себя брюки, нелепо прыгая на одной ноге.
— Что мы делаем, что мы делаем… — закрыв глаза, шепчет Нина Елизаровна и снимает колготки под одеялом. — Помоги нам, Господи… Прости меня, дуру старую!
— Ниночка-а-а!.. — воет от нежности Евгений Анатольевич.
Оставшись в пиджаке, рубашке и туго завязанном галстуке, но без штанов, а только лишь в длинноватых ситцевых трусах с веселенькими желто-синими цветочками, Евгений Анатольевич с сильно поглупевшим лицом бросается к дивану…
…но в это мгновение из Бабушкиной комнаты раздается мощный удар корабельного колокола.
Бом-м-м!!!
И сразу же, в незатухающем гуле от первого удара, звучит второй, еще более мощный и тревожный.
Бом-м-м!!!
— О черт побери! В кои-то веки! — в ярости вскрикивает Нина Елизаровна и спрыгивает с дивана в одной коротенькой комбинации.
Она врывается в бабушкину комнату, захлопывает за собой дверь, и оттуда раздается ее отчаянный крик:
— Ну что?! Что? Что?! Что тебе еще от меня нужно?!
Евгений Анатольевич в испуге бросается натягивать на себя брюки.
Потом, в криво застегнутом платьице, в старых стоптанных шлепанцах, она провожает Евгения Анатольевича и уже в дверях говорит ему тусклым, бесцветным голосом:
— Ну, не судьба, видно. Не судьба. Наверное, не для меня уже все это.
— Ниночка!
— Может быть, так оно и к лучшему.
— Нина, послушайте…
— Идите, Женя. Идите.
— Нина! Но ведь я вас…
— Господи… На какую-то секунду бабой себя почувствовала! И здрасьте пожалуйста… Идите, Женя. Видать, не получится у нас с вами романчик. Идите.
Она открывает входную дверь, прислоняется к косяку и смотрит, как раздавленный Евгений Анатольевич спускается по ступенькам.
— Эй, Евгений Анатольевич…
Он замирает, резко поворачивается к ней. В глазах у него сумасшедшая надежда, что она позовет его обратно. Но Нина Елизаровна желчно усмехается и говорит:
— А вам очень к лицу эти ваши трусики с желто-синими цветочками. — И медленно закрывает дверь.
Она возвращается в большую комнату, оглядывает стол с двумя приборами, остатки сыра, две чашки из-под кофе, недопитое шампанское, два бокала и пять маленьких бледных роз в старом хрустальном кувшинчике.
Потом туповато разглядывает свой диван с непорочной постелью, выливает остатки шампанского в бокал и не торопясь выпивает его до последней капли.
Она ставит бокал на стол и распахивает дверь Бабушкиной комнаты.
Бабушка настороженно смотрит на дочь.
— Ну, давай теперь спокойно: что тебе было от меня нужно? Объясни: зачем ты меня звала? Я тебя час тому назад накормила. Перестелила. Судно у тебя чистое. Сама ты…
Нина Елизаровна подходит к постели матери, резко сдергивает с нее одеяло. Тоненькие синеватые ножки с уродливыми старческими ступнями еле выглядывают из-под длинной холщовой ночной рубашки.
— Сама ты, совершенно сухая! Все у тебя в порядке! — Нина Елизаровна даже не замечает, что начинает повышать голос. — Что тебе еще от меня было нужно?!
Бабушка зажмуривается и в испуге поднимает правую руку, прикрывая лицо. Этого Нина Елизаровна не выдерживает.
— Ты что закрываешься?! — уже в полный голос возмущенно орет она. — Ты что закрываешься, комедиантка старая?! Тебя что, кто-нибудь когда-нибудь бил? Когда-нибудь хоть в чем-то упрекнул? Ты почему закрываешься? Ты всю жизнь жила так, как тебе этого хотелось! И меня заставляла жить, как тебе это было нужно! Это ты развела меня с Виктором! Ты не хотела его у нас прописать! Ты его сделала моим приходящим мужем! Помнишь?! А ведь Лидке уже четыре года было! Пусть он дурак, фанфарон, но он был отцом моей дочери, твоей внучки! Моим мужем, черт тебя побери! Может быть, я еще из него человека сделала бы! Нет!!! Как же! Тебе не нужен был зять-студент… Теперь у него все есть, а мы с тобой девятый хрен без соли доедаем! Я колготки себе лишние не могу купить! Девки ходят бог знает в чем! Ты же мне всю жизнь искалечила!!! Ты Сашу вспомни, Александра Наумовича! Ты же его со свету сживала! Только потому, что он Наумович да еще и Гольдберг!.. Это ты лишила Настю отца! Ты заставила поменять ей фамилию! А он меня по сей день любит… И Настю боготворит. И не виноват в том, что его тогда в оркестр Большого театра не взяли! Не его вина, что он до сих пор в оперетте за сто шестьдесят торчит! Потому что у нас в стране таких, как ты… А ты мне здесь еще цирк устраиваешь! Ручонкой она взялась прикрываться! Гадость какая! Мне пятьдесят через полгода. И в кои-то веки пришел нормальный, хороший мужик… К морю хотел тебя забрать! В садик выносить цветы нюхать! А ты!.. Господи!!! Да когда же это все кончится!..
Тут Нина Елизаровна замечает, что по неподвижному лицу старухи текут слезы и слабо шевелится единственно живой уголок беззубого рта. И Нина Елизаровна скисает.
— Ладно… Хватит, будя.
Она садится рядом с кроватью матери и уже совсем тихо говорит:
— Ну все. Все, все. Ну прости, черт бы меня побрал!
Нину Елизаровну наполняет щемящая жалость к безмолвной матери, она наклоняется, прижимается щекой к ее безжизненной руке и шепчет:
— Прости меня, мамочка…
Глаза ее тоже наполняются слезами, она тяжело вздыхает и вдруг, рассмеявшись сквозь слезы, удивленно спрашивает у матери:
— И чего я так завелась? Ну спрашивается, чего?..
Настин магазин снова закрыт на перерыв. В подсобке обедают четыре продавщицы в грязных белых куртках. Точно в такой же куртке сидит и покуривает Настя.
На электроплитке — кастрюля с супом. На столе — огурцы, простенькая колбаска, студень в домашней посудине.
Старшая продавщица Клава, в некрасивых золотых серьгах и кольцах, приоткрывает дверь подсобки и сквозь пустынный торговый зал видит за стеклянными витринами десятка полтора не очень живых старушек с самодельными продуктовыми сумками. У входа в винный отдел видит она и мрачноватую очередь еще трезвого мужского люда.
— И чего стоят? Чего ждут? Нет же ни хрена! Сами «Докторской» закусываем… А они стоят! Ну, люди!
Клава раздраженно захлопывает дверь, вытаскивает из-под стола большую початую бутылку «Московской» и разливает по стаканам.
— Оскоромишься? — Клава протягивает Насте бутылку.
Настя отрицательно покачивает головой.
— Будем здоровы, девки. — Клава выпивает, хрустит огурцом. — Настюха! Хоть студень-то спробуй. Домашний. С чесночком. Это тебе не магазинный — ухо-горло-нос-сиськи-письки-хвост.
Настя вежливо пробует студень.
— Лучше б двадцать пять капель приняла, чем курить, — говорит одна продавщица Насте.
— А в «Аргументах и фактах» написано, что в Калифорнии уже больше никто не курит. Во дают! Да? — говорит другая.
— Это почему же? — лениво осведомляется третья.