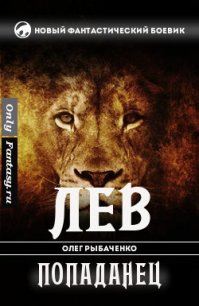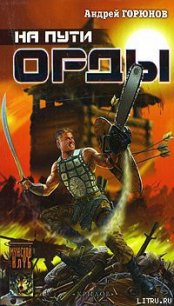Остров - Голованов Василий (лучшие книги без регистрации TXT) 📗
Но неспособность к самостоятельному мышлению – это и есть самая опасная болезнь нашего века.
То, что я говорю, не всем придётся по вкусу.
Скоро платить придется всем.
Рене Генон оптимист в том смысле, что возврат пространства и времени в «непроявленное состояние» означает для него лишь начало очередного цикла их проявления. В циклической теории развития мира здесь необычно лишь то, что в центре внимания у Генона оказывается не человек. Но Генон понимает, что человек – не более, чем заложник грандиозных и неподвластных его сознанию пульсаций.
Интересно, что эта, столь странная, на первый взгляд, мысль Генона о взаимопревращениях и «циклах» пространства/времени неожиданно находит созвучие в эссе Х. – Л. Борхеса о времени. Оно так и называется: «Время». В нем Борхес говорит о стремлении времени вернуться к началу, к вечности. Это звучит почти как парафраз слов Генона о стремлении пространства возвратить себе неискаженность, непочатость и силу, которые на заре человеческой истории так остро ощущались народами Земли, так же, как и целостность, непочатость мифического первовремени.
«Бог создал мир, и весь мир, вся сотворенная вселенная стремится вернуться к своему вечному источнику, лежащему не после времени или до него, но за его пределами. И это проявляется в жизненном порыве…
…Идея будущего связана с нашим желанием вернуться к началу…»
Время тоже в самой тайной своей сути не хочет быть зафиксированным, выпрямленным, уловленным. Оно порывается в вечность…
Возможно, влачась берегом холодного моря, порываемся в вечность и мы. И достигаем, по крайней мере, пространства. Оно достается нам, как переживание невероятной силы, переживание, которое пребудет с нами до смерти.
Теперь я понимаю это.
Понимаю, что это переживание было главнее всего.
Может быть, не стоило писать о нём – ибо слова, ставшие книгами, тоже способствуют «отвердению» мира. Но с точки зрения вечности, стремящейся вернуться в вечность, особого значения это не имеет. Просто мы решились испытать кое-что на собственной шкуре: получилось забавно.
И вряд ли эта книга стоила бы хоть чего-нибудь, если бы в ней шагов было меньше, чем слов. Но вышел я к синим горам 29 июля 1994, а дошел, чтоб не соврать, 15 июля 1997-го. Так что неудивительно, что к концу первого дня набралось всего 18 строк. Прошло ведь всего двенадцать часов – с пятнадцати минут второго пополудни, когда мы высадились на Васькиной, до пятнадцати минут второго ночи, когда вдруг на небо почернело, рванул ветер и пошел дождь. Мы нашли укрытую от ветра ложбинку с лужицей ржавой воды и возле этой лужицы в наступивших дождевых сумерках поставили палатку. Как могли, укрыли от дождя рюкзаки и залезли внутрь. Как назло, вокруг не было ни одного бревна, ни одного выброшенного на берег ящика, чтоб запалить костер и перед сном заварить хотя бы чаю. У кого-то во фляжке оказалась вода. Я достал мешочек со смесью орехов и изюма и насыпал каждому в горсть. Мы прожевали это и запили водой. Потом улеглись каждый на свой любимый бок – иначе в двухместной палатке четверым не хватало места – и молча лежали. Должно быть снаружи наша палатка, которую полоскал налетающий ветер, походила на мешок, набитый капустой.
– Сейчас бы супу гусиного, да, Вась? – спросил Алик.
– Что? – не понял я.
– Ты гуся-то ел когда-нибудь? – догадался Алик.
– Нет, – сказал я.
Потом я заснул, слыша, как хлопает под ветром тент палатки и Петька сопит, сразу спрятавшись в сон, и ребята заснули, и ветер, и ветер…
Кольца птицы
Первое последствие меткого выстрела – мгновенная и ясная радость от совершившейся добычи. Проводник наш, Алик Ардеев, стрелял метров с пятидесяти. Патроны были старые и, бывало, ружьишко – мелкашка с оспинами ржавчины на стволе – выстреливало не с первого разу, а так, скажем, с третьего, а то с пятого. К тому ж не дробь, а пуля в стволе. Выстрел хлопнул, можно сказать, как неожиданность, но когда я подбежал к гусю, тот был мертв, только пятнышко крови алело на груди, глаза закрылись. Но тут же выяснились еще два обстоятельства: во-первых, гусь был окольцованный, а во-вторых, он был тёплый. Тёплый! Мы были очень голодны, но еще больше продрогли, не первый час бредя по тундре. С моря, как всегда, сквозил ледяной туман, из носа капало, руки совсем замерзли и стали как резиновые…
Подобрав гуся я сразу почувствовал это тепло недавней жизни и, запустив руки в его оперенье, как в муфту, крепко сжал горячее тело. Я грел окоченевшие руки, мысленно прося прощения у подбитого гуся и, одновременно, заранее ликуя от того, что через час-другой, когда мы дойдем, наконец, до лагеря и разведем огонь, гусь этот превратится в прекрасную, золотистую гусиную похлебку и разделит тепло своей жизни со всеми. Пока же я пользовался им один, на ходу ощипывая бедолагу: я ободрал и перья, и пух и все-таки даже совсем голый он был еще теплый – вот сколько жизни было в нем!
Мысли о гусе и о том, что мы приобретаем ценою его жизни, или его смерти точнее, захватили меня настолько, что конец перехода дался совсем легко, хотя мы и шагали по местности, весьма противной для ходьбы: встречаются в тундре участки, где почва вся странным образом продавлена, кольцами отпечатан этот узор, возникающий в в силу необъяснимых геометрических причуд мерзлоты. Канавки, образующие эти кольца, зарастают более темным зеленым мхом, и поэтому узор хорошо различим: словно идешь по бескрайнему ковру с бесконечно повторяющимся мотивом. Мягкость ковра и канавки – только препятствие при ходьбе, а всё равно: вдруг возникает мальчишеское необъяснимое желание перепрыгнуть из кольца в кольцо, словно из одного мира в другой. Или из одной загадки в другую.
В истории открытия острова, которого я взялся быть описателем, заключен один из потрясающих замкнутых сюжетов, которых немало знает история. И нет ничего удивительного, что вплетена в него птица: остров-то, бескрайние пустынные долины его и лебединые озерки, в устьях рек – глинистые, поросшие гусиной травкой лайды – куропаточьи укромные кочкарнички с кустарничками, обрывы для орланов и сов, куликовы болота и чаячьи отмели – это ведь всё, по совести, птичья земля, птичий рай, плохо, надо сказать, пригодный для счастья адамова рода. Но человек, изгнанный из своего рая, рад и чужому. Русских поморов притянули к острову гуси: бесчисленные небесные стада влеклись к северу от матёрой земли на неведомые пастбища, и за ними тронулись промысловые лодьи и кочи по вымощенному синими волнами студеному морю.
Европейцев же, в конечном счете, привлекла к неприветливым берегам острова птица, издавна столь же дорого ценимая в Европе, как золото, оружие или конь доброй породы. Тут и возникает сюжет: в конце XIII века, когда венецианец Марко Поло, отправившись в Китай волею случая оказался при дворе хана Кублая. Спустя несколько лет Кубла-хан с милостью отпустил гостей своих, указав караванные пути в Индию, но до того заставил послужить, поприспешествовать в дипломатии, потешить диковинными рассказами о Европе. Путешествуя вместе с ханскими послами в восточных пределах империи чингизидов, распахнувшейся на полмира, Марко Поло и собрал первые сведения о морях и островах того огромного, непокоренного русского государства, которое простиралось к северу от разоряемых татарами земель. Он пишет: «…русские населяют очень большую территорию, которая доходит до самого арктического полюса… Страна очень холодная, потому что прилегает к студеному морю. Однако, имеется в этом море несколько островов, на которых живут хищные птицы, цапли и в изобилии соколы, которых развозят в разные страны света…»
Марко Поло назвал все известные ему имена тайны, которая будет разгадана лишь три столетия спустя: Китай, неизвестный остров в северном море, птица сокол.