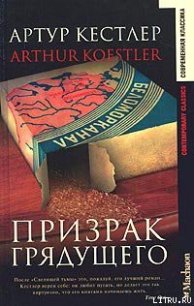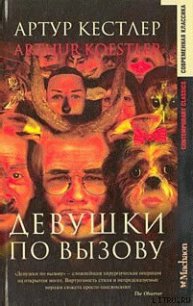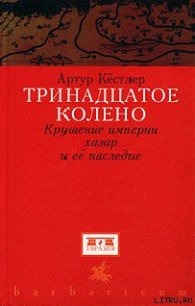Слепящая тьма - Кестлер Артур (серия книг TXT) 📗
Ему было очень трудно противиться этому мирному и мягкому искушению, оно опутывало туманом рассудок и сулило полнейший духовный покой. Глеткин громоздил бесчисленные логические доказательства его вины, а оно ненавязчиво, но постоянно напоминало совет записки, полученной в парикмахерской: «Умрите молча».
Иногда, охваченный апатией, Рубашов безмолвно шевелил губами. В таких случаях Глеткин прокашливался, сгонял назад складки гимнастерки под скрипучим ремнем, а Рубашов начинал потирать пенсне о рукав и безвольно кивал головой, потому что уже осознал в искусителе Немого Собеседника, которого, как ему казалось, он давно уничтожил в себе и которому здесь, в этом кабинете, было решительно нечего делать.
— Значит, вы отрицаете, что вели переговоры от имени оппозиции с представителями мирового капитализма, имея целью свержение существующего руководства в стране? Вы отрицаете, что за прямую или косвенную помощь обещали пересмотреть границы, то есть отдать интервентам определенные области нашей родины?
Рубашов решительно это отрицал; но когда Глеткин повторил ему дату и напомнил обстоятельства некоей встречи, в его сознании постепенно всплыл один незначительный, забытый разговор. Утомленно и растерянно слушая Глеткина, он сразу же понял, что тому не разъяснишь безобидности мимолетной светской беседы. Дело происходило в Торговой Миссии после официального дипломатического обеда. Рубашов разговорился с бароном 3., Секретарем Посольства той самой страны, где Рубашову недавно выбили зубы, о редкой породе морских свинок — оказалось, что отцы барона и Рубашова разводили этих экзотических животных, а поэтому были, вероятно, знакомы.
— И где же теперь, — поинтересовался барон, — содержится питомник вашего отца?
— Его разорили во время Революции: морских свинок пустили на мясо.
— А из наших наделали эрзац-консервов, — меланхолично сообщил Рубашову барон. Он не скрывал брезгливого отвращения к новому режиму в своей стране и оставался дипломатом только потому, что у властителей не дошли еще до него руки.
— У меня и у вас похожие судьбы, — отхлебнув кофе, проговорил барон. — Мы с вами оба пережили свое время. Теперь не поразводишь экзотических животных. Нынешний век — эпоха плебса.
— Вы забываете, господин барон, что я выступаю на стороне плебса, — улыбаясь, напомнил собеседнику Рубашов.
— Я говорю не о социальной позиции, — немного помолчав, возразил барон.
— Программа, выдвинутая нашим Усатиком, в принципе не вызывает у меня возражений — мне претит его пошлое плебейство. Человека можно послать на Голгофу только за то, во что он верует. — Они лениво попивали кофе, и через несколько секунд барон сказал: — Если у вас повторится Революция и вы сместите вашего Усача, постарайтесь не забыть о духовной вере или уж, по крайней мере об экзотике.
— Это у нас едва ли случится, — ответил Рубашов после паузы добавил: — Но у вас, судя по вашей реплике, все же допускают подобную возможность?
— Теперь допускают, — сказал барон. — На ваших последних судебных процессах вскрылись весьма интересные факты.
— И, видимо, у вас иногда обсуждают, какие шаги вам следует предпринять, если это невероятное событие все же случится? — спросил Рубашов.
Барон ответил быстро и точно, словно он предвидел рубашовский вопрос:
— В чужие дела мы вмешиваться не будем. Но сформированное Правительство — по его просьбе — можно поддержать… за определенную мзду.
Они уже стояли возле стола, и в руках у них были кофейные чашечки.
— Значит, если я вас правильно понял, вы обсуждали и размеры мзды? — Рубашов с легким беспокойством заметил, что небрежный тон ему не удался.
— Конечно, — спокойно ответил барон и назвал богатую пшеницей область, населенную одним из национальных меньшинств…
Рубашов забыл про этот разговор и никогда осознанно о нем не вспоминал. Светская беседа за чашечкой кофе — как он мог растолковать Глеткину, что она решительно ничего не значила?
Рубашов устало смотрел на следователя, по-обычному корректного и каменно-безучастного. Он, без сомнения, не интересовался экзотикой. Не пил кофе с баронами-дипломатами. Читая, он напряженно выговаривал слова, запинался и ставил неверные ударения. Его происхождение было чисто плебейским, и читать он научился уже будучи взрослым. Нет, ему никак не объяснишь, что разговор, начавшийся с морских свинок, может закончиться бог знает чем.
— Короче, вы признаете, что этот разговор все же имел место? — спросил Глеткин.
— Он был абсолютно безобидным, — устало ответил Рубашов и сразу понял, что Глеткин оттеснил его еще на один шаг.
— Таким же безобидным, как ваши чисто теоретические рассуждения перед юным Кифером, что руководителя нашей Партии надо сместить посредством насилия?
Рубашов потер пенсне о рукав. А действительно, была ли та беседа «абсолютно безобидной»? Разумеется, он не вел никаких переговоров, да и барона 3. никто не уполномочивал их вести. «Прощупывание почвы» — вот как это именуется у дипломатов. Но подобное «прощупывание» можно счесть и звеном в логической цепи его тогдашних рассуждений, а они опирались на проверенные практикой партийные традиции. Разве Старик в свое время не воспользовался услугами Генерального Штаба той же страны, чтобы вернуться на родину и довести начавшуюся Революцию до победы? И разве чуть позже, заключая первое перемирие, он не пошел на территориальные уступки, чтобы добиться передышки? «Старик меняет пространство на время», — остроумно заметил тогда один рубашовский приятель. «Безобидный разговор» столь прочно сомкнулся с другими звеньями общей цепочки, что Рубашов и сам теперь смотрел на него глазами Глеткина. Того самого Глеткина, который, читая, — а в общем-то, и думая — чуть ли не по слогам, приходил к простейшим, но неопровержимым выводам… весьма вероятно, именно потому, что совершенно не интересовался экзотикой. А как он, кстати, узнал о том разговоре? Вряд ли их с бароном могли подслушать — и значит, дипломат из аристократической семьи служил агентом-провокатором… Бог весть из каких соображений. Такое часто случалось и раньше. Рубашову была подстроена ловушка, неуклюже сляпанная примитивным воображением Первого, и он, Рубашов, попался в нее, словно слепой мышонок…
— Вы очень хорошо информированы о моей беседе с бароном 3., — сказал Рубашов, — а потому должны знать, что она не имела никаких последствий.
— Конечно, не имела, — ответил Глеткин, — благодаря тому, что вас вовремя арестовали, а все антипартийные группы в стране были разгромлены. Вам не удалось довести вашу измену до ее логического конца.
Чем он мог опровергнуть этот вывод? Сказать, что серьезные последствия были изначально невозможны хотя бы уже из-за его, рубашовской, дряхлости, которая мешала ему действовать последовательно, как того требовали партийные традиции и как повел бы себя на его месте Глеткин? Объяснить, что вся так называемая оппозиция давно выродилась в немощную трепотню из-за старческой дряхлости всей старой гвардии? Растолковать, что старая гвардия износилась и одряхлела, вымотанная жесточайшей подпольной борьбой, сырыми одиночками древних казематов и постоянным преодолением страха, о котором партийцы никогда не говорили друг с другом, так что каждому приходилось подавлять его в одиночку — многие годы, десятки лет? Рассказать, что старую гвардию вконец обессилили бесчисленные внутрипартийные распри и полнейшая беспринципность, непрерывные поражения и разврат абсолютной власти после победы? Стоило ли говорить Глеткину, что организованной оппозиции Первому никогда не существовало, что дело не шло дальше пустой болтовни и слабоумной игры с коварным, беспощадным огнем, что старая гвардия полностью исчерпала себя и поэтому ей, подобно мертвецам с кладбища в Эрани, остается надеяться только на вечный сон и оправдание потомков?
Так чем же он мог опровергнуть выводы этого неандертальского истукана? Его примитивная логика была совершенно неопровержимой, и, однако, он ошибался — потому что перед ним сидел не закаленный боец Рубашов, а его немощная тень. И благодаря этой единственной, но коренной ошибке Рубашова обвиняли в поступках, которые он отказался совершать. «Человека можно послать на Голгофу только за то, во что он верует», — сказал барон 3.