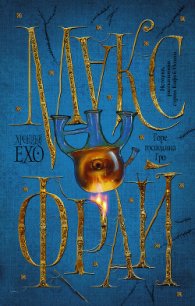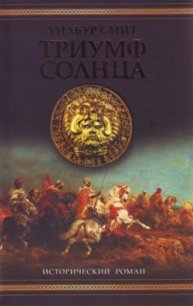Лагум - Велмар-Янкович Светлана (книги бесплатно без .txt, .fb2) 📗
Многое случилось, действительно, подумала я. Весь мир, распавшийся, перевернулся с ног на голову.
Да, полковник припоминает тот небольшой холст, о котором совсем было позабыл.
Я сказала ему, как мило, что полковник все-таки помнит. Мне приятно не только потому, что речь идет о подарке Савы, сделанном мне, но, более того, картина для меня всегда много значила, она, если так можно выразиться, существенная часть меня.
У меня складывалось впечатление, что я говорю на языке, который полковник больше не понимает.
И подарок еще более ценный, — попыталась я снова, — потому что Савы больше нет.
(Нет?
Я произнесла эти слова, адресованные полковнику, но знала, что сейчас не говорю всей правды. Потому что Сава был. Стоило мне произнести эти слова, и я тут же его увидела, как это часто случалось в последние месяцы, а особенно в последние дни: он стоял немного в отдалении и от полковника, и от меня, прислонившись несоразмерной головой к оголенной стене «зимнего сада», при этом голова была четко видна из-за правого плеча полковника Павле Зеца.
Он всегда появлялся в той же одежде, что и в тот мартовский день на Теразие, перед гостиницей «Сербия», в оккупированном Белграде: черный жилет поверх распахнутой белой сорочки, а галстука-бабочки нет, сорван. Он располагался так, что была видна только верхняя часть тела. Тела? Может быть, правильнее сказать призрака вместо тела.
И сейчас была видна только верхняя часть. Все остальное, наверное, загораживал полковник Зец, который не видел ничего.
Несуразная голова смотрела на меня, секунду или две. И подмигнула, заговорщицки. И исчезла. С тех пор, как его нет, Сава стал шалуном, подумала я.)
Да, сказал полковник, Савы больше нет.
К сожалению.
Он попытается, — добавил он, — сделать все, что сможет, он опасается, что сейчас несколько поздновато, поскольку, как мне известно, картины из этой квартиры, в прошлом имущество пособника оккупантов и предателя, унесли. Врага народа.
Мне не было известно, что уже унесли. И неизвестно, что все унесли.
Меня, жену врага народа, которая осмелилась говорить, вместо того, чтобы молчать, интересовало, почему унесли все картины, хотя я вовремя обратила внимание майора на то, что небольшой холст авторства Савы Шумановича принадлежит лично мне. Майор прочитал и посвящение на обороте.
Сейчас полковник Павле Зец обратил мое внимание на то, что я, наконец, должна понять: наступило новое время, и в этом новом времени ничто не делится на мое и твое, потому что не отделяется мое от твоего. Все наше, народное.
Прежде всего, собственность врагов народа.
По тому, как полковник произносил эти, семантикой соединенные слова, — враг народа, — прореза́лось, почти целиком, острие его беспощадности и пронзало меня, непрерывно.
И храбрость стала меня покидать. И решительность тона.
То, самое важное, я не решалась спросить.
Но, поскольку речь о картине Савы Шумановича, — добавил полковник, — великого художника, которого предатели жестоко убили, поскольку речь идет о подарке, он попытается позаботиться об этой картине.
Если, конечно, сможет. Исключения не допускаются.
Имею ли я еще что-нибудь сказать? Я имела, но не сказала.
Было что и спросить, но я не спросила.
Он смотрел на меня. Из него выскальзывал посторонний.
Он хотел, чтобы я его спросила. О том. И чтобы я его просила. О том. Здесь, в «зимнем саду», который больше не «зимний сад».
Но этого удовольствия я ему не доставлю.
Да, сказала я, еще кое-что. Я хотела бы, чтобы мне оставили этот столик, который случайно все еще тут. Не исчез вместе с остальной мебелью.
Если полковник Зец соглашается вспоминать, то я уверена, что он припомнит, столик тоже был важен в моей жизни. В свое время я об этом рассказывала художнику Павле Зецу, не знаю, помнит ли это полковник Зец.
Полковник не намеревался говорить, помнит он или не помнит, но было бесспорно, что и то, что в свое время рассказывалось художнику, он не желает признать запомненным. Он еще раз предостерег меня, что в новое время разговоры о предметах, важных в чьей-то жизни, звучат, как минимум, неуместно. Предметы не имеют значения, значение имеют человеческие жизни.
Он был абсолютно прав.
(«Ты еще читаешь, мама. Прекрасно. Я сомневалась, будить тебя или нет, если ты уснула, потому что это я должна тебе рассказать».
Думаю, что никогда не видела мою дочь Марию такой оттаявшей, готовой преодолеть свой давний спазм, просветленной. Совершенно точно, я такой не видела ее с тех пор, когда она начала взрослеть, а с тех пор, как два года назад, после своего развода, она вернулась в наш огрызок квартиры на улице Досифея, 17, Мария совсем зачерствела. Потому что это сейчас, которое сейчас всплыло, происходит в конце семидесятых: я уже достигла нынешнего возраста, изумляясь и тому, что достигла, и тому, что вот, старость здесь, моя. Год должен был быть, если я правильно подсчитываю, тот, с отметкой 1978, и это был конец лета. Какая-то теплая ночь. Августовская?
Я не уснула, потому что читала, а читала я перед сном роман французского писателя Мишеля Турнье [106], Метеоры. Той ночью этот Турнье поймал меня в капкан своего языка и этим капканом напугал. Для испуга были причины: кто-то в крупном издательстве вспомнил прилежного переводчика пятидесятых, известную Софию Маркович. Вспомнил, что ее переводы французских романов хвалили как переводы знатока обоих языков, и французского, и сербского, а позже шептались о некой тайне, связанной с именем переводчика. Не знаю, что именно помнившего имя София Маркович, действительно подтолкнуло навести справки, но меня пригласили в издательство и предложили перевести последний роман очень модного французского автора, Мишеля Турнье. Я не стала сразу ни соглашаться, ни отказываться; сначала надо было прочитать все, что этот господин, лет на двадцать моложе меня, к этому времени написал. Но были и причины принять вызов, невзирая на возраст. Во-первых, это был наилучший способ убедить себя в том, что я еще могу работать, а во-вторых, это был способ кое-что заработать. Нет, ирония моей судьбы состояла в том, что она не ввергла меня в ужасающую нищету, хотя могла бы, и все условия для этого были, но, как сказали бы юристы, я оказалась в своем возрасте без гроша в кармане. Правда, у меня была вот эта комнатка, что уже немало. Есть у меня и дети, не только готовые подумать обо мне, но и готовые от меня скрывать, что думают обо мне, а это еще лучше. Они получились неплохими экземплярами человеческой породы, моя Мария и мой Веля.
Но все-таки я иногда воспринимала их внимание как легкий гнет, и поэтому сейчас возможность опять что-то заработать показалась мне весьма привлекательной. Кроме того, весной предстояло путешествие в Нью-Йорк, поскольку известный психиатр Веля Павлович, точнее, Wel Pavlovich, мой сын, больше не захотел считаться ни с одной из причин, которыми я аргументировала свое нежелание ехать. Этот Wel Pavlovich, за которого я боялась, когда он был еще Велей, что из него в жизни ничего не получится, потому что он настоящий отвратительный мечтатель — я была уверена, что ему, в силу особенностей его личности, наилучшим образом подходит эта метафора Раде Драинаца [107], — оказался весьма расторопным в борьбе с жизнью и ее praxis [108], и, что еще важнее, довольно-таки храбрым. Может быть, он стал таким благодаря своей склонности не быть во всем безупречным. (Скверная черта, с еще более скверными последствиями, которая от меня передалась Марии.) Но вчера, когда мы разговаривали по телефону, потому что господин психиатр уже много лет через день звонит своей матери из Нью-Йорка в Белград, я поняла, что этот мягкий человек начинает сердиться. «А теперь хватит, мама, — сказал он, впервые со мной довольно решительный, может быть, даже немного повысив голос, — хватит спорить. Ты приезжаешь, и точка».