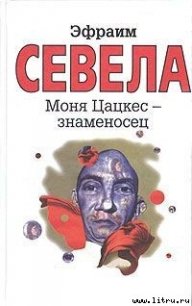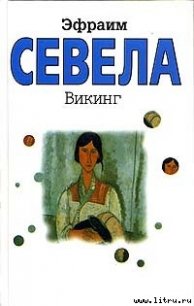Попугай, говорящий на идиш - Севела Эфраим (полные книги txt) 📗
Как они удержались на плаву, не опрокинулись? Где взяли сил грести против волны, час за часом, всю ночь и день? Как миновали сторожевые катера, прожекторными лучами рассекавшие пенные гребни волн? Как не столкнулись с рогатой плавающей миной, которыми Балтийское море было нафаршировано погуще, чем клецками мамин суп?
Все прошли, все миновали. И сил хватило. Потому что несли их крылья любви.
Они пересекли Балтийское море и достигли шведских берегов. В нейтральной Швеции, где войной и не пахло, они поженились и прожили счастливо четыре года до самой победы над Германией. И когда мир наступил на земле и по Балтийскому морю пошли вместо эсминцев пассажирские пароходы, с первым рейсом из Стокгольма в Ригу прибыли Милда и Янис. Соскучившись по Латвии и своим родным.
Латвия уже была не Латвией. А республикой в составе СССР. В Рижском порту пароход встретили советские солдаты и вопросы сошедшим на берег пассажирам задавали по-русски.
Яниса арестовали там же в порту. За то, что спасся из гетто, откуда другим уйти не удалось. Значит, что-то нечисто. Попахивает предательством. Объяснения Милды, что она выкупила его, отдав полицейским все фамильное серебро, никто слушать не стал. Янису дали десять лет лагерей за измену Родине и отправили в Сибирь.
А Милда сошла с ума.
Она бродила по Риге простоволосая, в грязной рваной одежде и заглядывала каждому встречному мужчине в лицо. А когда на улице никого не было, громко звала:
Янис! Янис!
Милиция ловила ее, отвозила к родителям. Ее запирали в доме на взморье. Каждый раз она убегала. И снова ее видели на улицах с глупой ухмылкой на некогда красивом лице, и снова люди слышали зов: — Янис! Янис!
Потом она пропала. По одним слухам, умерла в больнице, по другим — в бурную темную ночь бросилась в море и, перекрывая шум волн, звала: Янис! Янис!
Много лет спустя в Риге объявился Янис. Из Сибири. С седой бородой. Лишь глаза были те же. Темно-карие, как спелые вишни. С синевой белков. Он искал Милду. Не верил в ее смерть. Бродил, кружил по Риге, как потерявший хозяина пес. Просил указать ее могилу. Где похоронена Милда, никто не знал.
Однажды утром в самом центре Риги в парке у обелиска Свободы ранние прохожие обнаружили человека, висящего на поясном ремне, затянутом на толстом суку дерева. Одет он был в рваный сибирский ватник и лагерную шапку-ушанку.
Вот так вошл я в современную легенду Милда и Янис.
В моих ушах еще стояла крикливая свара матери Милды и еврейки-дачницы, когда я вышел в дюны и упругий встречный ветер с моря вздул парусом плащ на мне.
Пляж был безлюден. Волны с шумом накатывали на песок и ползли, шипя лопающейся пеной, почти до самых дюн, а выдохнувшись, стекали назад, оставляя темную, быстро светлевшую полосу. На тех местах, куда доползал пенный язык, оставалась грязная седина и почти черные жгуты водорослей, и это было границей, дальше которой заходить не стоило, чтоб не замочить ног. Я пошел вдоль кучек пены и водорослей, оставляя на влажном песке глубокие следы. Шел, уставившись под ноги, как искатель янтаря. Но я не искал в песке янтарных крупиц. Я брел, задумавшись, под рокот прибоя.
По морю гуляла высокая волна. Быстро темнело, и луч прожектора с пограничного катера скользнул по белым гребням, как по спинам белых овец, словно считая их, и, дойдя до берега, на миг ослепил меня. Потом исчез, словно прожектор проглотил собственный язык.
Я думал о том, что Милда и Янис бросились в море, когда шторм был посильней этого. И так же тогда прощупывал бараньи спины волн прожектор. Да еще мины, круглые и черные, утыканные рогами, как черти из подводного царства, выпрыгивали из пучины то справа, то слева от лодки, и Милда и Янис поднимали вверх весла, словно сдаваясь судьбе, и замирали, бессильные что-либо сделать.
Какая силища у любви! Только любовь могла дать им волю и выдержку, сверхчеловечью силу. Они прошли, где утонули бы в неравной борьбе с волнами самые опытные гребцы. Они проскочили мимо мин, сторожевых катеров и самолетов, куда посчитал бы безумным сунуться военный разведчик.
Латышская девочка и еврейский мальчик.
И сейчас в доме, чьи стены на одну ночь укрыли эту любовь, старые латышка и еврейка готовы были вцепиться в горло друг другу.
Меня снова ослепило. На сей раз не прожектор с моря. Задумавшись, я не заметил, как чуть не столкнулся с пограничным патрулем. Два молодых солдата, с русскими крестьянскими лицами, в зеленых фуражках и кирзовых сапогах, с автоматами на груди, проверили мои документы, хмыкнули, переглянувшись, при виде моей еврейской фамилии и велели найти для прогулок место подальше от моря, ибо с наступлением сумерек это уже не берег, а государственная граница СССР.
ПОТОМОК ЧИНГИСХАНА
— Заруби себе на носу, сынок, — сказал мой отец, не спуская глаз с гусиного перышка вертикально торчавшего из воды поплавка. — Из всех человеческих ценностей я превыше всего ставлю чувство собственного достоинства, которое отличает человека от скота и делает его венцом природы.
Мы сидели на мягком мшистом берегу тихой и ленивой русской речки, поросшей камышом и осокой, и удили рыбу самодельными удочками. За нами шелестели кружевными кистями листьев белые тонкоствольные березки, застывшие вперемежку с серыми осинами. Дальше высились темные верхушки елей. Забираться в лесную глушь, подальше от города и людей, просиживать до одури с удочками в руке стало в последние годы подлинной страстью для него, отставного полковника, повидавшего на своем веку столько, что и на сто человек хватило бы с лихвой. Он, все еще крепкий, с каменными мускулами на груди и руках, видно, очень устал от людей, от подлостей и измен и искал уединения, где можно бездумно, уставившись в одну точку, убивать время, оставшееся до могилы.
— Я, к примеру, — продолжал он, оторвав от губ приклеившийся конец сигареты, отчего приоткрылись еще крепкие, но желтые, насквозь прокуренные зубы, — оттого и жив до сих пор, что сохранял некую толику этого чувства. А не то сто раз бы погиб.
Это только кажется, что подлый и хитроумный народ живет подольше и слаще, а честный и прямой человек гибнет первым. Из того, чего я нагляделся, напрашивается совсем иной вывод. И тут ничего не подведешь под общий закон. От национальных ли качеств это зависит, от родительских ли генов? Не берусь судить.
Надо полагать, какой-то определенный закон естественного отбора распространяется на род людской, без различия рас, национальностей и вероисповеданий.
Чувство собственного достоинства в самом лучшем его виде проявляется у двух категорий людей: у крестьян, что трудятся на земле, выросли среди лесов и полей и привыкли хлеб добывать в поте лица своего, а также у интеллигентов. Подлинных, а не тех полуобразованных люмпенов, каких теперь встречаешь на каждом шагу. У интеллигентов развито понятие личной чести. И они не опустятся до низкого поступка, до скотского поведения, даже если на карту поставлена собственная жизнь. Они, к счастью, еще не лишились чувства стыда. А сколько народу даже не знает, что это такое?
Когда мой артиллерийский дивизион был разбит и, кто уцелел из личного состава, разбежались по окрестным деревням, я сорвал с себя командирские знаки различия, зарыл в землю партийный билет и в одиночку попытался пробиться из окружения к своим. Не вышло. Схватили.
И вот стою я в серой и грязной колонне военнопленных. Немцы нас построили в три шеренги и через переводчика объявляют:
— Кто еврей — три шага вперед!
Я сам поразился, как много евреев оказалось в колонне. Их всех отделили и поставили в другом конце плаца. Я, как ты догадываешься, даже бровью не повел, словно я не еврей. Стою где стоял.
Снова объявляют:
— Кто коммунист — три шага вперед! Их тоже в сторонку, к евреям.
Я — стою.
— Старший командный состав — три шага вперед! Их туда же, к коммунистам и евреям.
Потом всех, кого отделили, тут же на плацу и расстреляли. Из пулемета. На наших глазах.