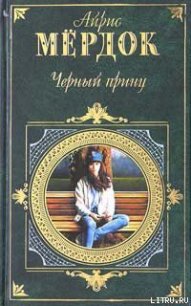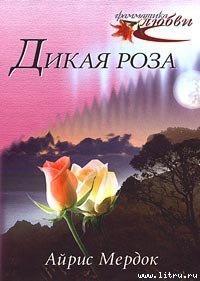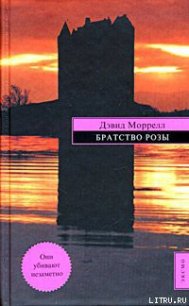Книга и братство - Мердок Айрис (серия книг .txt) 📗
Краймонд не любил музыку, но ему доставляли удовольствие литература и живопись, о которых он много знал. Особенно его увлекала поэзия. Все его книги, оставшиеся с университетской поры, стояли на полках в комнате с телевизором, которую он называл библиотекой, и, бывало, он читал Джин греческих и латинских авторов, иногда угощал ее Данте и Пушкиным. Джин, которая подзабыла латинский, итальянский знала плохо, а греческий и русский не знала вообще, и не пыталась вникнуть в содержание читаемых им стихов, но с большим удовольствием смотрела, как он весь преображается, охваченный воодушевлением. Он жадно набрасывался на книжные каталоги, радовался, когда они приходили, а не только покупал книги, нужные по «работе». В Оксфорде он занимался спортом и сейчас следил за собой, делал зарядку перед утренним чаем. Единственным его явным «увлечением» было огнестрельное оружие, которое он коллекционировал и которым умел пользоваться, как она убедилась, когда они были в Ирландии, но заинтересовать которым Джин не старался. Ее беспокойство, что ему надоест ее постоянное присутствие, скоро исчезло. «Теперь, когда ты в доме, мне работается намного лучше», — сказал он. А раз или два попросил ее вечером посидеть с ним в «игровой» с книгой или шитьем, не рядом, а в дальнем конце, чтобы он мог видеть ее. Уставая, он иногда кричал ей: «Не могу расслабиться и отдохнуть!» Звал Джин, и она гладила его по голове ото лба к шее или проводила пальцами по бледному веснушчатому лицу, щекам, закрытым векам, длинному носу. Потом он снова возвращался к письменному столу. Его усердие просто пугало.
— Мы безумные люди, — говаривал он, — это ж сущий Кафка.
— Счастливый Кафка, — отвечала Джин.
Или он говорил:
— Наша любовь совершенно очевидна и совершенно невозможна.
На что она отвечала:
— Она очевидна, потому что мы доказали, что она возможна.
А он:
— Хорошо. Значит, она очевидна, как существование Бога.
Она была взволнована, удивлена, глубоко тронута, даже испугана его зависимостью от нее.
— Ты — единственная женщина, которую я когда-либо желал, пожелаю или смогу пожелать, — признавался он ей.
Они сидели внизу на большом двуспальном диване-кровати, низком, жестком, почти квадратном, укрытом очень старым выцветшим зеленым лоскутным одеялом с геометрическим рисунком, сшитым, по словам Краймонда, на Гебридах и когда-то покрывавшим постель его родителей.
— Мне хотелось бы, чтобы в твоей жизни не было этого оружия. У тебя есть на него разрешение?
— Ш-ш-ш!
— Почему оно тебе так нравится? Ладно, я знаю, что мужчины любят оружие, но ты-то почему?
— Я всегда возился с оружием. У всех деревенских есть ружья. И в нашем доме были, когда я был ребенком. Мой дед был, так сказать, оруженосцем.
— Ты мне никогда этого не говорил.
— Ну, он занимался этим не постоянно, и мой отец в молодости тоже. Они заряжали ружья господам и подбирали убитую дичь. Ты, наверно, не видела тех ужасных сцен. У тебя романтическое восприятие оружия, потому что оно не было частью твоей жизни.
— Это ты романтик!
Джин не решилась рассказать Краймонду, что Синклер не раз брал ее с собой «пострелять». До чего странная вещь — память. Перед ней неожиданно и так ясно предстал Синклер с его белокурой гривой, коротким прямым носом и лучащимся проникновенным взглядом темно-синих глаз, так похожих на глаза Роуз, и беспечным и проказливым, как у испорченного мальчишки, выражением лица, в отличие от мягкого, спокойного и задумчивого у Роуз. В воспоминании Джин он стоял лицом к ней и держал в руках дробовик. Бриджи облеплены семенами золотистого папоротника. Она просто не могла видеть, как падают подстреленные птицы. Роуз тоже не выносила этого зрелища.
— Думаешь, что когда-нибудь оно пригодится тебе для зашиты?
— Нет, я так не думаю, — ответил Краймонд, отнесшись к ее вопросу серьезно. — Просто дело в меткости, мне нравится меткость.
— Да, в этом ты мастер, помню по Оксфорду и по Ирландии. Ты говорил, что эта мишень на стене — лишь символ, ты не стрелял по мишеням с тех пор, как я здесь.
— Я знаю, ты этого не любишь. Собираюсь скоро избавиться от большей части ружей.
— Но не от всех?
— Хочу иметь возможность застрелиться, если возникнет необходимость.
— А снотворное не годится? Ну да, предпочитаешь более красивый способ ухода.
— Более надежный.
— Мне иногда кажется, что ты с удовольствием бы пошел на войну.
— Сомневаюсь, пришлось бы прервать работу.
— Право, ты был бы рад Бомбе, которая уничтожила бы все мерзости прошлого, весь кич и фальшивую мораль, которые ты так ненавидишь!
— Мы уже сыты по горло фальшивой моралью, духовностью, аутентичностью и обветшалым христианством…
— Да, но мораль должна быть! В конце концов, ты пуританин, не выносишь порнографии, промискуитета и…
— Это заключительная вакханалия, последняя линия обороны так называемой воплощенной индивидуальности, которая усохла, превратившись в ничтожный прыщ эгоизма, даже само это понятие смердит. Это конец цивилизации, которая со злорадством смотрит на поиски индивида.
— Краймонд! Ты сам личность, ищущая личность! Тебе нравится быть воплощенной индивидуальностью! Или ты себя таковым не считаешь, поскольку философ и на все смотришь со стороны… или поскольку ты не продукт порочной эпохи? И ты говоришь «заключительная», а что дальше? Мы должны все это исправить, мы не можем полагаться на Бомбу или на Бога! Порой я думаю, что тебе даже секс противен, только ты не можешь отказаться от него, ты — запутавшийся сын галловейского почтальона.
Краймонд отпустил ее руку, которую держал в своей. Их колени не соприкасались. Краймонд, когда они были не в постели, избегал поцелуев и объятий. Не тратил впустую энергию страсти на постоянные прикосновения. Иногда казалось, что он холоден к Джин. Лишь изредка делал ей знак, и она подходила, брала его за руку или нежно гладила по волосам или щеке.
Проигнорировав необычную вспышку Джин, Краймонд сказал в продолжение ее слов о галловейском почтальоне:
— Кстати, хотел сказать тебе, что мне надо съездить в Шотландию на будущей неделе.
— Как он?
— Как обычно. Но навестить нужно.
Джин знала, что Краймонд все время беспокоится об отце, который стал терять силы и память. Но он не желал говорить с ней об этом. У нее закружилась голова от сладкой истомы желания и радости близкого его удовлетворения. Она не сделала попытки вернуть его руку.
Краймонд возобновил прерванную тему:
— Возможно, ты права. Индивид не способен преодолеть эгоизм, только обществу под силу стремиться к этому. Я всегда, кроме одного чудесного исключения, чувствовал, что близость с женщиной низводит меня до уровня животного.
— Когда ты сказал, что наша любовь очевидна, но невозможна, ты имел в виду, потому что она чудо?
— Нет… просто потому… Ладно, хватит разговоров.
— Я хочу, чтобы ты делился со мной своими идеями.
— Мои идеи живут только в написанных словах. Иди ко мне, Джини, моя королева, моя соколица, моя богиня, моя единственная любовь, иди ко мне, на постель, о моя сладость, мой хлеб и воздух, жизнь и любовь, мое последнее пристанище…
Страдания, какие испытывал Дункан, были много мучительней, чем представлял себе временами Джерард. Способность Дункана делать вид, что ничего не произошло, бодриться и быть невозмутимым не вводила в заблуждение его друзей, хотя, как им казалось, хуже, чем ему было, не бывает. Дункан ходил на работу, успешно, как прежде, справлялся с обязанностями, улыбался коллегам, шутил и болтал, и все это время в его голове бешено работала машина тьмы. Постоянная тьма преследовала его, обволакивала все вокруг. Лампа укутана черной вуалью, на мебели черная пыль, на руках черные пятна, в животе черная раковая опухоль. Он не был уверен, что лучше: страдать от этой черноты, воплощавшей тотальность убийственного горя, или анализировать его по частям, возвращаясь к каждой по отдельности. Он сознательно не отбрасывал надежды; просто, как ни смотреть, надеяться было не на что. Часто приходила мысль покончить с собой, и иногда это облегчало боль. Можно разом отключить измученное сознание.