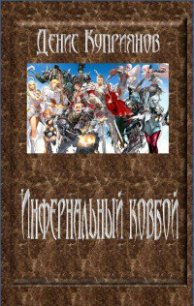Коллекционер - Фаулз Джон Роберт (электронные книги бесплатно txt) 📗
– Благодарю вас.
– На самом деле я и не думал, что вы отправитесь со мною в постель.
– Я знаю.
Он смотрел на меня долго-долго. Потом настроение у него изменилось, он достал шахматы и, когда мы играли, дал мне себя обыграть. Не признался, но я уверена, он это сделал нарочно. Мы больше не разговаривали, казалось, наши мысли передаются через шахматные фигуры, и в том, что я его обыграла, было что-то символическое. Он хотел, чтобы я почувствовала. Не знаю, что именно. Не знаю, хотел ли он, чтобы я думала, что моя «добродетель» одержала верх над его «греховностью», или имел в виду что-нибудь более тонкое, ну, что вроде иногда побежденный оказывается победителем. Не знаю.
В следующий мой визит он подарил мне рисунок: джезва и две чашки на верстаке. Замечательный рисунок, совершенно простой, сделанный без всякой суеты и нервозности, абсолютно без самолюбования, какое бывает у способной студентки художественного училища, когда она рисует простые предметы. То есть у меня.
Просто две чашки и маленькая медная джезва и его рука. Или – просто чья-то рука. Рядом с одной из чашек, как гипсовый слепок. На обороте он написал: «Apr?s...» – и число. А ниже: «Рour une рrinсesse lointaine». «Une» он подчеркнул очень жирной чертой.
Хотела еще написать про Туанетту. Но очень устала. Когда пишу, хочется курить, а от этого здесь становится очень душно.
29 октября (Утро.) Он уехал. Куда? В Луис.
Туанетта.
После той истории с пластинкой прошел месяц... Я должна бы догадаться – уж так она со мной мурлыкала, так лукаво посматривала. Я подумала, что-нибудь у нее с Пирсом. А потом, как-то вечером, позвонила в дверь, вижу – не заперто, и вошла. Взглянула наверх, и как раз в это время Туанетта приоткрыла дверь из студии и посмотрела вниз. Так мы и смотрели друг на друга с минуту. Потом она вышла на площадку, полуодетая. Ничего не сказала, просто махнула мне рукой, чтоб я поднялась наверх. Хуже всего было то, что я прямо залилась краской, а она – нет. Ей все это показалось забавным.
– Неужели это тебя шокирует? – спросила она. – Да брось ты. Он сейчас вернется. Вышел за...
А я уже не слышала, за чем он там вышел: бросилась прочь.
По-настоящему я до сих пор не пыталась анализировать, что меня так рассердило, так шокировало, отчего мне было так больно. И Дональд, и Пирс, и Дэйвид, буквально все знают, что в Лондоне она ведет себя точно так, как раньше в Стокгольме. Она и сама мне говорила, и все они тоже. А Ч.В. ведь очень четко объяснил мне, каков он сам.
Думаю, дело не просто в ревности. Как мог такой человек, как Ч.В., сблизиться с ней – такой практичной, неглубокой, такой фальшивой и распущенной. Впрочем, какой резон был ему со мной считаться? Вовсе никакого.
Он старше меня на двадцать один год. Всего на девять лет младше П.
Потом, очень долго, я испытывала отвращение не к Ч.В., а к себе самой. К своей собственной узколобости. Заставляла себя встречаться с Туанеттой, слушать ее болтовню. Она вовсе не хвасталась, не торжествовала. Наверное, Ч. В. запретил ей.
После того, как мы у Ч.В. были втроем, на следующий день она пошла к нему, будто бы извиниться. И (по ее словам) «так уж вышло».
Мне было завидно. Глядя на них, я чувствовала себя просто старухой. А они вели себя, как расшалившиеся дети. Радовались, что у них есть тайна. Веселились. А я вдруг испугалась: может быть, я – фригидна? Перестала видеться с Ч.В. Просто не могла его видеть. В конце концов, примерно через неделю, он позвонил мне домой, к Кэролайн. Разговаривал обычным тоном, вовсе не виноватым. Я сказала, что ужасно занята, просто не выберу времени его повидать. Нет, и сегодня вечером не смогу зайти.
Если бы он настаивал, я бы продолжала отказываться. Но он уже готов был повесить трубку, и я сказала, что зайду завтра. Мне так хотелось, чтобы он увидел – я обижена. Невозможно выглядеть обиженной по телефону.
А Кэролайн сказала:
– Мне кажется, ты слишком часто с ним видишься.
Я ответила, у него роман с этой девушкой из Швеции.
Мы с ней даже побеседовали на эту тему. Я была ужасно объективна. Я его защищала. Но – когда отправилась спать – долго про себя обвиняла его во всех смертных грехах. Не могла остановиться.
На следующий день он сразу же спросил (без всякого притворства):
– Она что, наговорила вам гадостей?
Я ответила, совсем нет. И добавила, будто мне все равно, с чего бы вдруг?
Он улыбнулся. Будто хотел сказать, знаю, знаю, каково тебе сейчас. И мне захотелось дать ему пощечину. Я не могла больше делать вид, что мне все равно. И от этого чувствовала себя еще хуже.
А он сказал:
– Все мужчины – подлецы.
Я ответила, подлее всего, что они способны улыбаться, признаваясь в этом.
– Вы правы, – сказал он. И замолчал. Надолго. Я пожалела, что пришла. Что не могу вычеркнуть его из своей жизни. Взглянула на дверь в спальню. Она была приоткрыта, и можно было видеть изножье кровати.
Потом сказала, просто я еще не умею делить свою жизнь, как вагон – на купе. В одном купе то, в другом – это. Вот и все.
– Миранда, послушайте. Эти долгие двадцать лет, что нас разделяют... Я лучше знаю жизнь, я прожил дольше и больше предавал и больше видел людей, которых предал кто-то другой. Вы же полны светлых идеалов. Так и должно быть – возраст у вас такой. Вам кажется, что раз я способен иногда различить, что в искусстве тривиально, а что существенно, значит, я должен быть преисполнен добродетелей. Но это не так. Да я и не стремлюсь быть добродетельным. Вас влечет ко мне (если и в самом деле влечет) моя откровен-ность. И опыт. А вовсе не мои прекрасные качества. Их нет. И может быть, в том, что касается этики, морали, я даже моложе вас. Вы понимаете, что я хочу сказать?
Он говорил именно то, что я чувствовала, но не могла сформулировать. Я закостенела, а он сохранил гибкость, но ведь должно было быть совсем наоборот. И вина тут была только моя, моя собственная, я не могла не думать о том, что он пригласил меня на концерт, а потом вернулся сюда, к ней. Я вспоминала случаи, когда звонила у его двери и никто не откликался. Теперь я понимаю, это была самая настоящая ревность, но тогда мне все это казалось предательством, отказом от собственных принципов. (Я и сейчас ни в чем не уверена, все в голове перемешалось, не могу здраво рассуждать.) Я сказала, очень хочется послушать ту индийскую пластинку. (Не могла же я сказать – я вас прощаю.) Послушали пластинку. Потом играли в шахматы. И он выиграл. И ни слова о Туанетте. Только уже потом на лестнице, когда я уходила, он сказал:
– С этим покончено.
Я ничего не ответила.
– Она просто развлекалась. И все.
Но все уже было не так, как раньше. Словно мы заключили перемирие. Мы еще несколько раз виделись, но больше не оставались вдвоем. Я написала ему из Испании два письма, и он ответил открыткой. Потом я как-то виделась с ним в начале октября. Но про это я напишу в другой раз. И еще напишу про странный разговор с этой Нильсен.
Вот что еще Туанетта рассказывала. Он говорил ей про сыновей. И мне так его стало жалко. Как они его просили не приезжать к ним в эту их пижонскую частную школу, а встречаться с ними в городе. Стеснялись, не хотели, чтобы его в этой школе видели. Как Роберт (он теперь в колледже в Мальборо) разговаривает с ним свысока.
Со мной он об этом никогда не говорил. Может быть, в глубине души он считает, что и я из этих. Добро-детельная мещаночка, резонерствующая тупица из частного пансиона.
(Вечер.) Сегодня опять пыталась по памяти сделать карандашный портрет Ч.В. Безнадежно.
После ужина К. сидел у меня и читал «Над пропастью во ржи». Несколько раз – думая, что я не вижу, – проверял, сколько еще ему страниц надо прочесть.
Читает, только чтобы показать мне, как он старается.
Сегодня проходила мимо парадной двери (после ванны) и говорю ему: «Ну, благодарю вас за чудесный вечер, мне пора. Всего вам хорошего». И дернула дверь. Конечно, заперта на все замки. «Не открывается, видно, заело», – говорю. Он даже не улыбнулся. Стоял и смотрел. Я сказала: «Шучу, конечно». – «Я понял», – говорит. Странно – я почувствовала себя полной идиоткой. Просто потому, что он не улыбнулся.