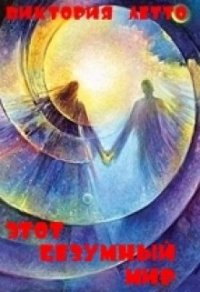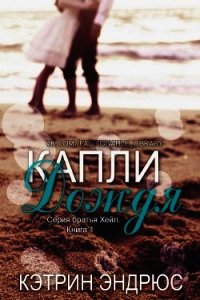Тысяча жизней. Ода кризису зрелого возраста - Кригер Борис (книга регистрации .TXT) 📗
– Странно. Я ведь считаю себя учеником Канта, – спокойно возразил Шопенгауэр, – а он мне говорил, что вы с ним вполне поладили… Я вовсе не говорю то, что вы мне приписываете. Видите ли, герр Кригер, те, которые надеются стать философами путем изучения истории философии и сочинения нелепых историй о философах, как это делаете вы, скорее, должны вынести из этого неблаговидного занятия то убеждение, что философами рождаются так же, как и поэтами, и притом гораздо реже! Герр Кригер, вы такой же философ, как я балерина…
Я осмотрел Шопенгауэра с ног до головы и согласился, что на балерину он не похож, как, впрочем, и на балеруна.
– Раз уж вы так рветесь меня критиковать, – продолжал Шопенгауэр, – извольте выслушать мои доводы. «Мир явлений» дан человеку как его «представление», его априорные формы – пространство, время, причинность. Субъект и объект – это соотносительные моменты мира как «представления». Мир как «вещь в себе» предстает в моих работах как безосновная «воля», которая обнаруживается и в слепо действующей силе природы, и в обдуманной деятельности человека; разум лишь инструмент этой «воли». Как «вещь в себе», воля едина и находится по ту сторону причин и следствий, однако в мире как «представлении» она проявляется в бесконечном множестве «объективации». Ступени этой объективации (неорганическая природа, растение, животное, человек) образуют иерархическую целостность, отражающую иерархию идей (понимаемых в платоновском смысле), «адекватных объективации воли». Каждой объективации свойственно стремление к абсолютному господству. В живой природе и в обществе воля проявляется в качестве «воли к жизни» —источника животных инстинктов и бесконечного эгоизма человека; всякий «осознает себя всей волей к жизни», тогда как все прочие индивиды существуют в его представлении как нечто от него зависящее, что выражается в непрерывной «войне всех против всех»; государство не уничтожает эгоизма, будучи лишь системой сбалансированных частных воль.
– Увы, герр Шопенгауэр, я не спорю с основами вашей философии, ибо вы недалеко ушли от герра Кан та. Вы просто облекли одни и те же понятия в новые определения, только и всего. У нас в России о таком открытии говорят: те же… уши, только сбоку. По-ва шему, я не философ. Не уродился… Рылом, так сказать, не вышел. Ну что ж, возможно, вы правы. Я и не пре тендую, пожалуй. Однако для вашего удовлетворения я вам придумаю сейчас же на гора двадцать таких же теорий, где у меня главной будет Воля, а разум – второ степенным, или, если пожелаете, я назову все мироз дание «Мировым Импульсом» или «Мировым Стиму лом», – ну, аплодируйте мне! Я гений! Я назвал все новым словом! Или взять Гегеля…
Шопенгауэр грубо меня перебил:
– Гегель не только не имеет никаких заслуг перед философией, но оказал на нее крайне пагубное, поис тине отупляющее, можно сказать, тлетворное влияние. Кто может читать его наиболее прославленное произ ведение, так называемую «Феноменологию духа», не испытывая в то же время такого чувства, как если бы он был в доме умалишенных, – того надо считать достойным этого местожительства.
– Хорошо, оставим Гегеля, я, в общем, не о Гегеле. Хотя и он занимался примерно тем же, только сбоку. В противовес Лейбницу вы называете существующий мир «наихудшим из возможных», а свое учение «пессимизмом». Мировая история, по-вашему, не имеет смысла. Вы, случайно, не заключали сделок с Дьяволом? А то в ваше время это было, кажется, модно. Да и с Гёте вы были знакомы, не так ли? Вы, кажется, с ними встречались в Веймаре в литературном салоне вашей матери?
– Я не имею более ничего общего с моей матерью, – грубо оборвал меня Шопенгауэр, – я никогда не прощу ей холодности к больному отцу, – было видно, что и по прошествии лет эти чувства все еще были для него свежи.
– Хорошо, не о вашей матери речь. Вашу мать… оставим в покое. Вы ведь сами критиковали язык философии и стремились к простоте слога, образной наглядности и афористической четкости в изложении собственной философии, но вы не пошли дальше просто дачи новых названий старым предметам, окрашивая их в черный гибельный цвет. Пессимистические и волюнтаристские мотивы вашей философии, ваш интуитивизм и моралистическая критика культуры получили отклик в двадцатом веке и, желаете вы того или нет, сделали его гораздо более кровавым, чем он мог бы быть!
– Ну что ж, расстанемся на этом, – сухо попрощался Шопенгауэр и, к нашему удивлению, учтиво поцеловал Анюте ручку, которую она боязливо отдернула, почувствовав прикосновение сухих губ…
– Как все-таки много значит неудавшаяся личная жизнь и дурной характер человека, – задумчиво сказала Анюта, когда Шопенгауэр скрылся из виду. Она вытирала поцелованную руку платком, хотя губы галантного собеседника были совершенно сухи.
– Увы, дело не в философе, – вздохнул я, – и не в его неврозах, таких неврастеников пруд пруди… А дело в том, кто нашел и прославил работы этого старика.
– Кто же это был? Кто же был этот серый кардинал? – нетерпеливо спросила Анюта.
– Я боюсь, он не серый и не кардинал… Я боюсь, его имя – Дьявол, – задумчиво сказал я.
– А обезьянку жалко, – вздохнула Анюта, и мы, задумчивые, отправились прочь из Берлинского Зоопарка Философии, который подарил миру столько страшных и неспокойных зверей.
Глава тридцать седьмая
Чем я пытался подкупить Ницше
Мой невроз одарил меня самыми различными симптомами, которые просто не могли не предвещать мою скорейшую кончину от неизвестного заболевания. Голова кружилась, и я думал, что это верный признак приближающегося конца.
Мы вообще недооцениваем силу человеческого самовнушения. Огромное число страждущих объективно здоровы, но носятся со своими воображаемыми недугами и не только убеждают себя, но и внушают своим врачам, что они безнадежно, смертельно больны.
Вот и Роберт Уилсон [73] как-то писал, что, по замечанию доктора Леонарда Орра, человеческий мозг ведет себя так, как если бы он состоял из двух частей: «думающего» и «доказывающего».
«Думающий» может думать практически обо всем. Как показала история, он может думать, что Земля покоится на спинах черепах, или что она внутри пуста, или что она плывет в пространстве. В это верят миллионы людей. Сравнительная религия и философия показывают, что «думающий» может считать себя смертным, бессмертным, одновременно смертным и бессмертным (реинкарнационная модель), или даже несуществующим (буддизм).
Он может думать, что живет в христианском, марксистском, научно-релятивистском или нацистском мире, – это еще далеко не все варианты.
Как часто наблюдалось психиатрами и психологами (к вящей досаде их медицинских коллег), «думающий» может придумать себе болезнь и даже выздоровление.
«Доказывающий» – это гораздо более простой механизм. Он работает по единственному закону: «Что бы ни думал „думающий“, „доказывающий“ это докажет». Вот типичный пример, породивший невероятные ужасы в прошлом столетии: если «думающий» думает, что все евреи богаты, «доказывающий» это докажет. Он найдет свидетельства в пользу того, что самый бедный еврей в самом захудалом гетто где-то прячет деньги. Подобным образом, феминистки способны верить, что все мужчины (включая голодных бродяг, которые живут на улицах) эксплуатируют всех женщин (включая английскую королеву).
Если «думающий» думает, что Солнце вращается вокруг Земли, «доказывающий» услужливо организует восприятие так, чтобы оно соответствовало этой идее; если «думающий» передумает и решит, что Земля вращается вокруг Солнца, «доказывающий» организует свидетельства по-новому.
Если «думающий» думает, что «святая вода» излечит его люмбаго, «доказывающий» будет искусно дирижировать сигналами от желез, мышц, органов и так далее до тех пор, пока организм вновь не станет здоровым.
Врача в своих болезнях мне убедить не удалось. Врачи ведь – совсем другое дело. Им бы до обеденного перерыва дотянуть, а там и до конца рабочего дня рукой подать. Одним пациентом больше, одним меньше —какая разница? «У вас, голубчик, рак… Ой, нет, извините, не у вас. Это у другого больного. А у вас СПИД. Ой, нет, не у вас. Вы – здоровы. Больной, чего это вы набок заваливаетесь?»
73
Уилсон Роберт А. Психология эволюции / Пер. с англ.; под ред. А. Костенко. Изд-во «София», 2005. С. 24.