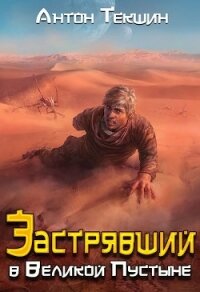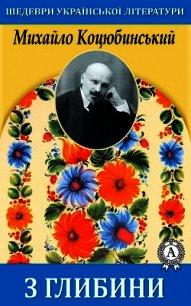Кто я для себя - Пантич Михайло (полные книги .TXT, .FB2) 📗
Если бы я верил в реинкарнацию, то мог бы легко сделать вывод, что в какой-то прежней жизни был рыбаком, например в каком-нибудь японском рыбацком поселке или в Перу, хотя не очень-то в это верится. Но я верю в магию воды. Я ощутил ее, будучи трехлетним мальчиком, и с тех пор она меня не отпускает. Я ловил рыбу в море, часами просиживая на молу или деревянных мостках, погруженных в мелководье лагуны, ни посулами, ни угрозами меня не могли оттуда согнать; часами меня зазывали поесть, а более серьезно настоящей рыбалкой я начал заниматься в начальной школе. Это междуречье в моем городе в то время было заболоченным пустырем, квартал, где я жил, одним из первых построили на насыпной песчаной дамбе. Рядом проходила железная дорога, а там, за рельсами, начиналось наше царство, сеть каналов и луж, междуречье, заросшее урутью, камышом, вербами, кувшинками, населенное рыбами, птицами и мелкой живностью. Как ни посмотри, у меня было необычное детство: рядом с бетонной пустошью мегаполиса я параллельно знакомился с почти нетронутой природой. Продолжалось это недолго, за два-три лета болото засыпали песком, так что теперь я живу на том же месте, точно, метр в метр, где когда-то ловил краснопёрок, окуньков и щук. Это были мои первые рыбки, во всех смыслах слова. Серебристого карася, у нас называемого «бабушка», тогда, к счастью, не было. «Бабушки» (во всех смыслах слова) появились позже…
* * *
В три года я тонул в реке. Помню так, как будто это было вчера. Я зашел на мелководье, до колен, меня тянуло в воду. Еще один шаг, то ли галька ушла из под моей маленькой ноги, и меня затянуло в водоворот, я попытался вдохнуть, но глотнул воды и стал захлебываться, не знаю, молотил ли руками, только время от времени мне удавалось поднять голову над поверхностью воды; черт его знает, испугался ли я, но только подумал, что скоро умру, тогда у меня впервые мелькнула мысль о смерти. Это — когда нас нет. А потом меня схватили чьи-то сильные руки и легко вынесли на берег, летом и не такая уж большая река, везде, кроме омутов, ее можно перейти вброд… Это был какой-то солдат, теперь я придумываю, потому что ничего о нем не знаю, может быть, родом из далеких краев, может быть, сбежавший из части тем адски жарким летним днем искупаться, и вот здесь мы встретились, чтобы не встретиться больше никогда, его рука и моя детская голова, благодаря чему я сейчас все это пишу и обо всем думаю, иначе давно бы лежал в забвении, как это однажды и случится, неумолимо, в силу времени, все мы однажды станем забвением, любое воспоминание имеет свой срок, если не станет рассказом…
* * *
Лет пять-шесть спустя опять было жаркое лето, мы с ребятами убежали купаться на другую, еще меньшую речушку, где мы, когда тетя мне разрешала, иногда ловили карликов и раков. Но в тот раз мы ушли подальше от дома, на излучину, где течение быстрое и впадает в глубокий водоворот. Здесь можно было прыгать вниз головой, а еще мы состязались, кто первым переплывет речку в несколько замахов. Горожане, генетически склонные к преувеличениям (если их кусал комар, они говорили: «Заколол меня комар!»), называли водоворот Манитовац,[56] хотя, по правде говоря, в том, якобы бешеном месте, не было никакого неистовства, а только небольшое расширение неспешного течения реки. Но здесь когда-то, мне рассказывали, утонула Зора, моя двоюродная сестра, и Манитовац таким образом укрепил свою дурную славу; атавистический страх воды имеет свои глубокие корни и причину, из воды мы вышли, в воду и уйдем.
Мы только-только пришли на реку, огорченные тем, что хозяин ближнего фруктового сада утыкал кромку забора осколками разбитых стеклянных бутылок, и мы больше не сможем, перемахнув через него, красть зеленые сливы, как вдруг, злой, каким я его никогда не видел, перед нами возник мой дядя. «Что вы тут делаете, безобразники, марш домой, я вам сейчас покажу!» Так мы, повесив носы, и поступили, не будет ни купания, ни карпиков, ни раков. Тридцать с лишним лет спустя я проходил мимо Манитоваца, водоворот оказался спрятанным, будто в большой кастрюле, мне казалось, что я могу его выпить в три глотка, а ближайший холм, на который учительница Никчевич водила нас смотреть на окрестности и определять стороны света (оближешь указательный палец и узнаешь, откуда дует ветер), показался мне какой-то лилипутской кочкой. В воспоминаниях вещи часто оказываются в сто раз больше, чем на самом деле. Но по мере нашего старения они уменьшаются, будто исчезают, как в мыслях, так и в реальности.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})* * *
Меня выводят на небольшой балкон. Я держусь за чью-то ногу, выглядываю между столбиками балюстрады, высоко над землей. Внизу, под нами, толпится масса народу, потом я увижу столько людей только в 1997-м, на встрече Сербского Нового года, когда весь Белград воздвигся, чтобы опровергнуть наглую ложь. Но здесь речь о другой большой и длительной иллюзии, в которой я вырос, которой присягали даже те, кто сейчас говорит, будто бы не верили в нее. Большой военный парад грохочет по улицам, солдаты и офицеры в безупречно выстроенных колоннах, танки, джипы и грузовики, похожие на тот, что мне купил дядя, брат отца, только в сто раз больше. И люди, с оружием и без оружия, люди, выкрикивающие лозунги, аплодисменты и голоса летят в небо, пулеметы, пушки, ракеты — все это приводит меня в возбуждение, которого я не понимаю, но ощущаю очень сильно. Потом мы уезжаем на другой конец города, к дяде, маминому брату, на обед, и я в ванной комнате первый раз в жизни вижу ручной душ, который напоминает мне телефонную трубку. Наш душ, неподвижный, был укреплен высоко, из него, когда меня купали, вода лилась потоками, как дождь, а этот можно было поворачивать, как хочешь. Именно так я и поступаю, но оказываюсь облившимся водой с ног до головы. Привстаю на цыпочки и на стеклянной полке под зеркалом рассматриваю мелочи: бритвенный прибор, расчески, флакончики с лосьонами и духами, в одной картонной коробочке вижу овальные пакетики в золотой фольге, похожие на шоколадки, но это не шоколадки, они какие-то резиновые, обсыпанные тальком; у зубной пасты вкус клубники, я пробую, и мне нравится, я хочу съесть ее немного, но меня тошнит. Выхожу из ванной комнаты, мокрый и замызганный, взрослые заняты каким-то полнометражным разговором. Меня никто не закачает…
* * *
А потом мне кто-то принес голубей, в подарок. Они были молоденькие, еще не летали. Я бегал за ними, хотел поймать хотя бы одного. Но они были сноровистей меня. «Посыпь им хвост солью», — сказал мне дядя и дал солонку. Я опять бегал за ними, пытаясь посолить им хвосты. Ничего не выходило. Я хныкал, а все надо мной смеялись. «Ладно, пошли в кондитерскую», — сказал дядя, чтобы меня утешить, но там не было сутлияша, сладкой рисовой каши. Я любил сутлияш с корицей. «Возьми тулумбу». «Не хочу тулумбу, хочу рисовую кашу». «Этому ребенку никто не угодит», — сказал дядя кондитеру, а потом повернулся ко мне: «Вот бы мне узнать, кто тебе насыплет соли на хвост, — процедил он сердито, — пошли домой».
* * *
Из игрушек еще помню черный кольт, ковбойский (так я его называл), который при помощи проволочной пружины выбрасывает из барабана желтые пули. Та-та-та, я стрелял из него целыми днями, до хрипоты, пока пружина не ослабла настолько, что пуля едва выползала из ствола и падала мне под ноги, хлоп, а потом и его не стало. Помню лук и стрелы, настоящий лук, как у индейца, с кисточками, а стрел было три, и первый его владелец, какой-то мальчишка старше меня, метко попадал в ворота гаража во дворе. Ух, как мне хотелось такой лук. «Три сотни», — сказал этот мальчик, я не знал, сколько это, пошел на кухню, встал на цыпочки, достал из шкафчика банку с деньгами и отнес ее во двор. «Вот, возьми», — сказал я ему, у мальчика заблестели глаза. Он засунул пальцы в банку, вытащил несколько купюр, пихнул мне в одну руку лук и стрелы, в другую — банку, и был таков, как будто его никогда тут и не было. Я не знал, что делать с таким молниеносно полученным даром, если это был дар. Вдруг я понял, что чистый объект желаний принадлежит мне, что он мой, лук и стрелы больше не выглядели столь же привлекательно, как несколько дней назад в руках недавнего владельца бесценного сокровища. Никто из домашних мне ничего не сказал, банка с деньгами была возвращена на свое место, а лук и стрелы бесследно исчезли. И мне совсем их не было жаль, нисколько. Потом мне дали в утешение другой, безыскусно сработанный из ветки граба. Я на него даже не взглянул.