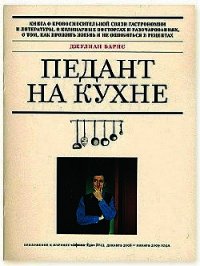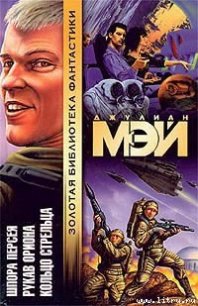Попугай Флобера - Барнс Джулиан Патрик (серии книг читать онлайн бесплатно полностью txt) 📗
д) (1871) «Интернационалисты это иезуиты будущего».
15. И ПОПУГАЙ…
Попугай? Что ж, мне понадобилось почти два года, чтобы завершить «Дело о Чучеле попугая». Письма, которые я разослал после своего первого возвращения из Руана, не дали мне ничего существенного, на многие я даже не получил ответа. Возможно, кое-кто из моих адресатов просто решил, что я — какой-то свихнувшийся тип или выживший из ума ученый-самоучка, зацепившись за ничтожный факт, таким жалким образом пытается теперь создать себе имя в ученой среде. Кстати сказать, подобным образом чаще свихиваются молодые, а не старые — они гораздо эгоистичнее, склонны к самоистязанию и самоуничтожению и зачастую настоящие психи, жаждущие крови. Просто пресса более снисходительна к ним. Когда те, кому за восемьдесят, семьдесят или даже только пятьдесят пять, кончают свою жизнь самоубийством, то это обычно принято объяснять старческим размягчением мозгов, постклимактерической депрессией или последним приступом тщеславия, а то и мести, желанием заставить других почувствовать себя виноватыми. Когда же так кончает жизнь кто-то из двадцатилетних, то это объясняют высокомерным отказом от тех жалких обещаний, которые может дать им жизнь, и тогда самоубийства считаются не только актом героизма, но и актом морального и социального протеста. Жизнь? Пусть старики проживут ее за нас. Полный идиотизм, разумеется. Говорю, как врач.
Кстати, пока мы дискутируем на эту тему, мне хочется заметить, что слухи о том, что Флобер сам наложил на себя руки — это еще одна идиотская выдумка, и к тому же выдумка одного типа из Руана, которого зовут Эдмон Леду. Этот выдумщик небылиц возникает дважды в связи с биографией Флобера и каждый раз распространяет сплетни. Его первая неприятная отсебятина — это утверждение, будто Флобер был помолвлен с Джульет Герберт. Леду утверждал, что видел экземпляр книги «Искушение Св. Антония» с надписью, сделанной рукой Гюстава: «Моей невесте». Странно, что он увидел книгу в Руане, а не в Лондоне, где жила Джульет. Странно, что никто, кроме него, не видел этой книги, странно и то, что книга не сохранилась, и то, что Флобер сам не обмолвился о помолвке, странно также, и то, что все это диаметрально противоречило тому, во что верил Флобер. Странно также еще и потому, что все другие ложные утверждения Леду — о самоубийстве, например, — тоже глубоко противоречили убеждениям писателя. Вслушайтесь в его слова: «Нам надо учиться скромности у раненых животных, которые прячутся в глубокие норы и затихают. Мир полон людей, которые громко сетуют на Провидение. Нам бы следовало избегать вести себя так, хотя бы ради соблюдения хороших манер». И снова вспомнились слова, прочно засевшие в памяти: «У таких, как мы, должна быть религия отчаяния. Мы должны соответствовать своей судьбе, то есть быть столь же бесстрастными, как она. Сказав: „Тому и быть, тому и быть“, человек, заглянув в темную яму у своих ног, должен оставаться спокойным».
Не такие слова произносят самоубийцы. Это слова человека, чей стоицизм столь же непоколебим, как и пессимизм. Раненый зверь не убивает себя. И если вы понимаете, что взгляд в пропасть у ваших ног грозит утратой покоя, не прыгайте в нее. Возможно, в этом была слабость Эллен: она не отважилась заглянуть в черную яму. Она только постоянно косилась на нее. Одного взгляда оказалось бы для нее достаточным, чтобы впасть в отчаяние, но отчаяние заставило бы ее искать возможности отвлечься и забыть. Кто-то словно не видит эту черную яму, кто-то просто игнорирует ее; те же, кто постоянно поглядывают на нее, становятся одержимыми. Эллен выбрала нужную ей дозу; она, казалось, впервые воспользовалась своими знаниями жены врача.
Вот что рассказывал Леду о самоубийстве Флобера: он повесился в своей ванной. Полагаю, это звучит правдоподобней, чем утверждать, будто Флобер покончил с собой, наглотавшись снотворного… Но на самом деле все было так: Флобер, проснувшись, принял горячую ванну, после нее с ним случился апоплексический удар и он еле добрался до софы в кабинете. Там и нашел его умирающим врач, который позднее констатировал смерть и подписал свидетельство. Вот как это было. Такой была смерть Флобера. Первый биограф писателя лично беседовал с врачом, засвидетельствовавшим кончину писателя. Согласно же версии Леду, получается, что Флобер, приняв горячую ванну, вдруг решил повеситься, что и проделал каким-то необъяснимым образом, а затем вышел из ванной, спрятал веревку, добрался до софы в кабинете и упал на нее. Когда пришел врач, Флобер умер, успев изобразить все симптомы апоплексии. Полнейшая нелепость.
Нет дыма без огня, говорят. Боюсь» что это не совсем так. Эдмон Леду — пример такого неожиданного дыма без огня. Кто он, этот Леду, в конце концов? Кажется, этого никто не знает. Он ничем себя не проявил, чтобы о нем заговорили. Он — полнейшее ничтожество и существует лишь как рассказчик двух лживых историй. Возможно, кто-то из семьи Флоберов когда-то чем-то не угодил ему (может, Ахиллу Флоберу не удалось вылечить бурсит на его ноге). И теперь он удачно отомстил. А это означает, что немногим книгам о Флобере удается перед изданием избежать дискуссии, — за которой неизменно следует отказ, — об этой истории с самоубийством. Как видите, это происходит и сегодня. Если вновь сдаться и отступить на длительный срок, то нс помогут никакие моральные протесты и возмущения. Вот почему я решил написать о попугаях. Во всяком случае, у Леду нет никакой теории относительно попугаев.
У меня же она есть. И не только теория. Я уже говорил, что на это у меня ушло два года. Нет, это, пожалуй, похоже на хвастовство. Просто я хочу сказать, что между моментом, когда возник этот вопрос, и моментом, когда он был решен, прошло целых два года. Один из академических снобов, к которому я обратился с письмом, даже высказал мнение о том, что, в сущности, этот вопрос не представляет никакого интереса. Что ж, он должен стеречь неприступность своей территории. Но кто-то из других все же назвал мне имя некого месье Люсьена Андрие.
Я решил не писать ему; в конце концов, моя затея с перепиской ни к чему не привела. Вместо письма, в августе 1982 года я сам отправился в Руан. Я остановился в гранд-отеле «Норд», соседствующем буквально впритык с городскими «Большими часами». В одном из углов моего номера проходила плохо замаскированная канализационная труба, атаковавшая меня каждые пять минут характерным шумом; она исправно выполняла свои обязанности, сбрасывая вниз все отходы отеля. После ужина, лежа на постели, я вынужден был слушать спорадические шумы трубы, свидетельствующие о здоровом галльском аппетите постояльцев отеля. Затем, в свое время, били «Большие часы», их звон казался мне ненормально близким, будто они спрятаны в моем платяном шкафу. Я усомнился в том, что ночью мне удастся спокойно выспаться.
Мои опасения, однако, оказались напрасными. После десяти вечера труба затихла, затихли и «Большие часы». Видимо, все это относилось к дневным развлечениям для туристов. Руан действительно заботливо отключал куранты, когда гости города ложились спать. Я же лежал, вытянувшись на постели, погасив лампу, и думал о попугае Флобера: для Фелиситэ он был огромным и вполне логично предстал перед нею как Святой дух; мне же сейчас он казался еле уловимым отзвуком голоса писателя. Когда Фелиситэ умирала, попугай вернулся к ней во всем своем великолепии, чтобы приветствовать ее в разверстых небесах. Засыпая, я гадал, какие сны мне будут сниться в эту ночь.
Попугаи мне не снились. Вместо них мне снилось, что я путешествовал, меняя поезда в Бирмингеме. Шла война. В дальнем конце платформы стоял фургон охраны. Мой чемодан, мешая, терся мне о ногу. Стоящий на путях поезд был без огней, еле освещено было только здание станции. Свериться с расписанием я не смог: мелкие буквы слились в одно темное пятно. Надежды никакой. Поезда явно не ходили, кругом безлюдье и темнота.
Думаете, подобные сны сбываются, если в них есть хотя бы какой-то смысл? Сны не очень считаются с нами, и тем более им не свойственны ни такт, ни деликатность. Этот сон о железнодорожной станции — он снился мне три месяца подряд, если не больше — повторился, как кусок киноленты, пока наконец я не проснулся, испытывая неприятную тяжесть в груди, совершенно подавленный. Проснулся я после второго удара часов и от уже знакомого грохота в трубе: меня разбудили «Большие часы» и канализационная труба. Время и дерьмо: интересно, позабавило бы это Гюстава Флобера?