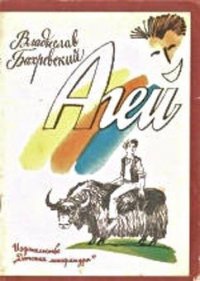Боярыня Морозова - Бахревский Владислав Анатольевич (читаемые книги читать .txt) 📗
И все же сомнения не оставляли Никона, он отправил константинопольскому патриарху – высшему авторитету по вопросам православия – двадцать семь вопросов о церковных обрядах и два обвинения: против епископа коломенского Павла и против ссыльного протопопа Неронова.
Никон хлопотал об устройстве правильного и во всем превосходного пути в кущи рая, а государь Алексей Михайлович с воодушевлением творил земные царские дела.
Победы
В походе Алексей Михайлович завел обычай всякий день обедать с разными людьми из своей огромной свиты. Ночевать приходилось иной раз в крестьянских избах, за стол многих не посадишь, обижать же людей ненароком – хуже всего. Нечаянную обиду всю жизнь помнят.
На стану в деревне Федоровской с государем обедали Никита Иванович Романов, Глеб Иванович Морозов, митрополит Корнилий, а за вторым столом, у двери, – архимандриты монастырей Спасского в Казани, Саввино-Сторожевского и Спасо-Евфимиевского в Суздале, с ними еще двое: стольник князь Иван Дмитриевич Пожарский и царский ловчий Афанасий Матюшкин.
Походный обед царя был незамысловат. На первое щи, на второе каша с гусем да пирог с рыбой. Из питья – квас и пиво.
Перед обедом митрополит Корнилий благословил пищу. Царь, садясь за стол после молитвы, радостно вспомнил:
– День-то нынче какой! На четвертое июня приходится святитель Митрофан, патриарх Константинопольский. Первый из константинопольских патриархов. Бог ему за праведность послал сто семнадцать лет жизни.
– Жизнь была иная! – сказал Никита Иванович, недовольно возя ложкой в оловянной тарелке: щей не терпел, но у царя в гостях и редька слаще пряника.
– Что мы знаем про чужую жизнь? – не согласился государь. – Отец Митрофана епископ Дометий приходился римскому императору родным братом. Однако ж и ему, принявшему веру Христа, в Риме не было защиты, за море пришлось бежать, в Византию.
Никита Иванович, глядя куда-то над столом, с мукой на лице торопливо выхлебал щи и откинулся спиной к стене, переводя дух. Покосился в сторону царя.
Алексей Михайлович ел неторопливо, по-крестьянски подставляя под ложку кусок хлеба.
«Где только так выучился?» – изумился про себя Никита Иванович и, не в силах сдерживать кипевшего в нем раздражения, сказал:
– У них было куда бегать. Византия – не Кострома.
За столом потишало. Глеб Иванович сообразил, что Романов ведет речи негожие. Промолчать значит быть с царским дядюшкой заодно; с полным ртом закудахтал:
– Экося! Царев батюшка, великий государь Михаил Федорович, царство ему небесное, не бегал в Кострому, но изошел из нее. А изыдя, укрепился в Москве. Ныне же великий наш государь, изыдя из Москвы, будет и в Смоленске и много дальше, ибо все это – русская земля.
– Ох, Морозовы! – покачал головой Никита Иванович. – Государь, кто тебе первым поклонился, помнишь?
– Помню, Никита Иванович, – сказал царь, принимаясь за гуся. – Первым был ты.
– Так могу ли царю своему, желая ему одного только добра, правду говорить?
– Изволь, Никита Иванович. Я правду жалую, ты же знаешь.
– Я-то знаю. Но не все про то знают. Помнишь ли ты, государь, как ходил под Смоленск боярин Михайло Шеин?
– Да где ж мне помнить? Мне тогда и пяти лет, наверное, не было.
– Ну а мы с Глебом Ивановичем хорошо все помним. Не правда ли, Глеб Иванович?
– Шеина казнили по боярскому извету, – вспылил Морозов. – Вины за ним не было!
– Не о том речь, что с воеводою сталось, – сказал ядовито Никита Иванович. – Речь о том, что сталось с царевым войском. Ну где нам с Литвою воевать? Били они блаженной памяти царя Ивана Васильевича, били царя Бориса, в плен взяли царя Василия Ивановича Шуйского. А что до Шеина… В поход он пошел со многими пушками и со многими людьми. Вернулся же без единой пушки, а людей с ним осталось тысяч пять. А знаешь, Глеб Иванович, сколько с ним на Смоленск ходило? Это я, как «Отче наш», помню. Тридцать две тысячи конных и пеших. И сто пятьдесят восемь пушек! А пушки-то какие! Не чета нашим.
От гнева седые брови Никиты Ивановича сошлись, а лицо, как у малого ребенка, съежилось в кулачок.
Царь развел руками.
– Что ж теперь поделать-то, Никита Иванович? Не вертаться же? Мы еще до Вязьмы не дошли, а воеводы наши уж города у неприятеля воюют… Дома-то сиднями сидеть тоже нельзя. Вороги на издревле русской земле христианскую веру под корень изводят. Знать такое и не заступиться – тоже грех.
– «Грех»! «Грех»! – не сдержался Никита Иванович. – Вот как побьют нас латиняне, как навалятся всей силою, так, глядишь, снова Москвы-то и не удержим. Вот это будет грех! Всем грехам грех!
– Бог милостив! – Государь перекрестился, кивнул на стол, где сидели архимандриты. – У батюшки моего Пожарский был, и у меня, слава богу, Пожарский есть.
Улыбнулся порозовевшему Ивану Дмитриевичу.
И тут в избу быстро вошел Борис Иванович Морозов.
– Гонец, государь! Дорогобуж отворил ворота!
Царь выбежал из-за стола, обнял Бориса Ивановича, обнял Никиту Ивановича.
– А ты говоришь! А ты говоришь!
Обнялся со всеми, кто был на обеде.
В избу вошел сеунщик.
– Рассказывай, братец! Рассказывай! – прервал его поклоны государь. – Что за война была?
– Войны, великий государь, не было. Твой, государь, боярин Федор Борисович Долматов-Карпов, тебя ожидая, послал малый отряд проведать дорогу к Дорогобужу. А с отрядом увязались вяземские охочие люди. Польский воевода как увидел, что на него войной идут, так сразу со всем своим войском ушел из города в Смоленск. Дорогобужские же мещане твоему войску тотчас ворота открыли, а к тебе послали выборных с поклоном.
Государь в порыве снял с себя золотой нательный крестик и надел на гонца.
…Война шла победная. Взяли Невель.
Крепость Белая вернулась в лоно Русского государства. Государь велел митрополиту Корнилию служить благодарственный молебен, а воеводам князю Михайле Михайловичу Темкину-Ростовскому да Василию Ивановичу Стрешневу отправил похвальную грамоту.
В тот день шли к Смоленску скорее обычного. Государь ездил вдоль войска на коне, поторапливая пеших и конных.
– Царь-то у нас развоевался! – с усмешкой говорил Никита Иванович Романов, не страшась, что про те его разговоры государю обязательно доложат.
Казнь икон
Царь – развоевался, а патриарх – разбушевался. В страхе жила Москва. Люди Никона по доносу и без доноса врывались в дома мещан, дворян и даже бояр в поисках латинянской змеиной хитрости – ереси.
Иконы!
Московские иконописцы, соблазнясь красотою итальянских привозных икон, стали писать святых апостолов и саму Богоматерь как кому вздумалось, без строгости, без канона. Патриарх ужаснулся, когда обратил наконец внимание на новомодные иконы. Испорченные писцами книги – это еще не беда, книга – редкость, не всякий поп книгу читает. А вот икона вхожа в каждый дом. Икона у царя, икона и у крестьянина. А коли все иконы порченые, кому царство молится? Кому?
Вопрос об иконах явился на соборе. В тот же день Никон, отслужа литургию в Успенском соборе, стал говорить гневливое слово против икон франкского письма.
Царица с царевнами и ближними боярынями стояла за запоною.
«Господи, – думала царица, – слава тебе и моление нижайшее, что послал ты царю моему такого светлого мужа, как Никон».
«Господи! – огнем горела царевна Татьяна Михайловна. – Мой грех на мне, но коли счастье, мне данное, не от дьявола – слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!»
И боярыня Федосья Прокопьевна Морозова, бывшая в тот день с царицею в Успенском соборе, заслушалась Никона, загляделась на него, воина Господня, твердого, несокрушенного.
Но не ведали царственные и сановные женщины, какой искус уготован им уже через несколько минут.
Закончив поучение, Никон дал служителям собора знак, и четверо отроков принесли большую, в рост человека, икону «Рождество Христово». Лицо Девы Марии, склоненное над Пресветлым Младенцем, было умильное, розовое от нежной материнской ласки, прекрасные глаза ее сияли, руки были живые, каждая жилочка из-под кожи видна.