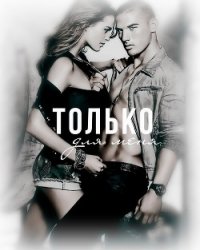В сторону Свана - Пруст Марсель (лучшие книги без регистрации TXT) 📗
Несколько поодаль течение Вивоны засоряется водяными растениями. Сначала они попадаются в одиночку, например, какая-нибудь кувшинка, так несчастливо выросшая посреди водяной струи, что та не давала ей ни минуты покоя, и, подобно механически движущемуся парому, цветок приставал к одному берегу лишь для того, чтобы снова отплыть к другому, вечно повторяя свой двойной путь. Увлекаемый к одному из берегов, стебель его распрямлялся, удлинялся, вытягивался, достигал крайнего предела растяжения, затем струя снова подхватывала его, зеленый трос сворачивался и приводил бедное растение к его исходному пункту, могущему быть названным так с тем большим правом, что оно ни секунды не оставалось там и обречено было снова повторять свое неизменное движение. В каждую из наших прогулок я всегда находил его все в том же беспомощном состоянии, напоминавшем состояние неврастеников той категории, куда, по мнению дедушки, следовало отнести тетю Леонию, — неврастеников, из года в год, без всякого изменения, являющих нам зрелище странных привычек, от которых, как им кажется, они вот-вот готовы избавиться, но которым остаются верны до самой смерти; подхваченные шестерней своих недугов и маний, тщетно пытаются они вырваться на свободу: усилия их лишь обеспечивают неуклонное функционирование их странной, роковой и гибельной диететики. Такова была и эта водяная лилия, похожая также на одного из тех несчастных, необыкновенное мучение которых, непрестанно повторявшееся в течение вечности, привлекло к себе любопытство Данте, и он обстоятельнее расспросил бы о его природе и причинах у самих жертв, если бы Вергилий, ушедший далеко вперед, не заставлял его поспешно бежать за ним вдогонку, как заставляли меня догонять их мои родные.
Но дальше течение замедляется, река проходит по частному владению, доступ в которое был открыт для публики его собственником, большим любителем водяной садовой культуры, насадившим в маленьких прудах, образуемых здесь Вивоной, целые сады водяных лилий. Так как берега в этом месте поросли густыми рощами, то тень от деревьев давала воде известную окраску, обыкновенно, темно-зеленую; но по временам, когда мы возвращались домой прояснившимися после грозового полудня вечерами, я видел на поверхности воды чистые и яркие синие тона, почти фиолетовые, похожие на перегородчатые эмали в японском вкусе. Там и сям на воде краснел, словно земляника, цветок кувшинки, с алым сердцем в кольце белых лепестков. Дальше цветов росло больше, но они были более бледные и не такие лоснящиеся, более шероховатые, в более густых складочках, и случай разбрасывал их в таких изящных узорах, что мне казалось, будто я вижу плывущие по течению, как после меланхолического финала изысканного праздника во вкусе Ватто, растрепанные гирлянды бледных роз. В другом месте, казалось, сохранен был уголок для более грубых сортов, с опрятными белыми и розовыми, как у ночных фиалок, лепестками, вымытыми с хозяйственной заботливостью, словно фарфоровая посуда, тогда как немного подальше другие кувшинки, прижавшиеся друг к дружке и образовавшие настоящую плавучую грядку, похожи были на анютины глазки, прилетевшие сюда, словно мотыльки, из какого-то сада подержаться на своих полированных голубоватых крылышках над прозрачной тенистостью этого водного цветника; этого небесного цветника также: ибо он давал цветам почву тона более драгоценного, более волнующего, чем тон самих цветов; и сверкала ли она под кувшинками в полдень калейдоскопом молчаливого, ненасытного и переменчивого счастья, или же наполнялась, словно далекий какой залив, розовыми грезами закатного солнца, непрестанно меняя окраску, но всегда гармонируя, вокруг более устойчивой окраски венчиков лилий, с тем, что есть самого глубокого, самого мимолетного, самого таинственного, — с тем, что есть самого бесконечного, — в каждом мгновении: и в полдень, и вечером водяные эти лилии цвели, казалось, в лоне самого неба.
Миновав этот парк, Вивона вновь ускоряла свое течение. Сколько раз наблюдал я — и желал поступать точно так же, когда волен буду жить как мне заблагорассудится, — гребца, который, уронив весла и запрокинув голову, лежал на спине, растянувшись во весь рост, пустив лодку по течению, видя только медленно скользящее над ним небо и изображая на лице своем предвкушение счастья и покоя.
Мы присаживались между ирисами на берегу реки. В праздничном небе лениво плыло беспечное облачко. По временам, истомленный скукой, карп всплескивал над водой в каком-то отчаянном порыве. Нам пора было подкрепиться. Перед тем как вновь пуститься в путь, мы долго ели фрукты, булку и шоколад, сидя на траве, и к нам доносились с горизонта ослабленные, но еще густые и металлические звуки колокола Сент-Илер; они нисколько не растворялись в воздухе, который пересекали с таких уже давних пор, но, разъятые на части последовательным своим трепетанием, вибрировали над самыми венчиками цветов у наших ног.
Иногда мы проходили мимо стоявшего у самой воды и окруженного деревьями дома, какой-то загородной дачи, — одинокого, затерянного, не видевшего ничего, кроме реки, омывавшей его фундамент. Молодая женщина, задумчивое лицо которой и элегантные вуали были не местного происхождения и которая, должно быть, прибыла сюда, чтобы, согласно народному выражению, «схорониться» в этом доме, вкушать горькое удовольствие от сознания, что ее имя, и особенно имя того, чье сердце она не могла удержать, здесь неизвестно, — глядела из окна, не позволявшего ей видеть дальше причаленной у двери лодки. Она рассеянно поднимала глаза, заслышав за деревьями, росшими на берегу, голоса прохожих, по которым, еще перед тем как увидеть их лица, она с уверенностью могла заключить, что никогда эти прохожие не знали и никогда не узнают неверного ее любовника, что ничто в их прошлой жизни не хранило знака о нем и никогда в их будущем им не случится получить этот знак. Чувствовалось, что в своем отречении она добровольно покинула места, где могла бы, по крайней мере, поглядеть на того, кого она любила, променяв их на места, которые его никогда не видели. И я замечал, как, возвратившись с дальней прогулки по дороге, на которой, как ей хорошо было известно, он никогда не покажется, она снимала со своих покорившихся судьбе рук длинные перчатки, вкладывая в это движение ненужную ей теперь грацию.
Во время наших прогулок в сторону Германта никогда не могли мы добраться до истоков Вивоны, о которых я часто думал и которые были в моем представлении чем-то столь абстрактным, столь идеальным, что, когда мне сообщили об их местонахождении в нашем департаменте, на расстоянии определенного числа километров от Комбре, я был так же удивлен, как удивился, узнав, что пункт, где, по мнению древних, открывался вход в преисподнюю, существует в действительности на земной поверхности. Равным образом никогда не могли мы дойти до предела, которого мне так хотелось достигнуть, — до самого Германта. Я знал, что там был замок, где жили герцог и герцогиня Германтские, знал, что они были реальные и подлинно существующие персонажи, но каждый раз, когда я думал о них, я представлял их себе то на гобелене, как графиню Германтскую на «Короновании Эсфири», висевшем в нашей церкви, то в переливчатых радужных тонах, как Жильбера Дурного на витраже, где из капустно-зеленого он делался сливяно-синим в зависимости от того, погружал ли я еще руку в святую воду или подходил уже к нашим стульям, то совсем неосязаемыми, как образ Женевьевы Брабантской, родоначальницы фамилии Германтов, образ, проектируемый волшебным фонарем на занавески моей комнаты и подчас даже на потолок, — словом, всегда окутанными тайной меровингской эпохи и купавшимися, словно в лучах закатного солнца, в оранжевом свете, источаемом звучным слогом «ант». Но если, несмотря на это, они были для меня, в качестве герцога и герцогини, существами реальными, хотя и необыкновенными, зато их герцогская личность расширялась до огромных размеров, делалась невещественной, чтобы быть способной вместить в себя тот Германт, герцогом и герцогиней которых они были, всю залитую солнцем «сторону Германта», течение Вивоны, ее кувшинки и развесистые деревья и бесконечную вереницу прекрасных летних послеполуденных часов. И я знал, что они не только носили титул герцога и герцогини Германтских, но, начиная с XIV века, когда после безуспешных попыток одержать верх над своими прежними сеньорами, они объединились с ними путем браков и стали также графами Комбрейскими, следовательно, первыми гражданами Комбре, хотя и единственными из всех граждан, не жившими в нем; — графами Комбрейскими, обладавшими Комбре, вплетшими его в свое имя и свою личность и несомненно носившими на себе печать той странной и набожной меланхолии, которая была такой характерной особенностью Комбре; — собственниками города, но города в целом, а не какого-либо отдельного дома в нем, пребывавшими, вероятно, на дворе, на улице, между небом и землею, как тот Жильбер Германтский, у которого я мог видеть на витражах абсиды Сент-Илер только покрытую черным лаком оборотную сторону, если задирал голову, когда ходил за солью к Камю.