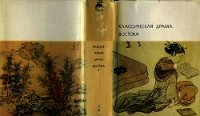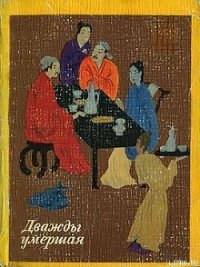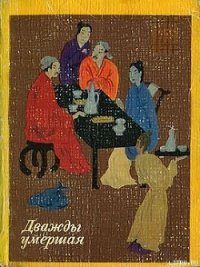Луна над рекой Сицзян (СИ) - Шаогун Хань (версия книг txt, fb2) 📗
В своё время она и впрямь частенько ходила на улицу Тайпинцзе, иногда чтобы купить мой любимый ферментированный тофу, иногда — подсушенную рыбу для Лао Хэй; прихватив свой порванный зонт, она уходила и полдня не возвращалась, несмотря на то что перед её глазами уже начинали плыть круги и ноги подкашивались, — и всё для того, чтобы сэкономить восемь фэней на проезде. Любовь к Тайпинцзе навеки впечаталась в её душу.
Недоверие тётушки к подсушенной рыбке перешло в крайнюю степень недовольства, особенно сильно это проявилось в настороженном отношении к моей жене. Когда жена хотела помочь тётушке с туалетом, та делала каменное лицо, вытягивала по швам негнущиеся руки и решительно сопротивлялась, а стоило на секунду отвлечься, как она щедро справляла нужду прямо в кровать. Сушилка в нашем доме снова оказывалась загружена до предела, а измотанная жена лишь тяжело вздыхала. Если я сменял её, становилось получше: лицо тётушки прояснялось, иногда на нём даже появлялась улыбка; вот только когда я делал ей сложный массаж, помогающий сходить в туалет, она не прекращала кокетливо стонать. Жена как-то тихонько спросила у меня, может, из-за того, что тётушка рано овдовела, в ней ещё сохранилось стремление кокетничать с мужчинами?
Конечно, этого мы уже никогда не узнаем.
Когда я отсутствовал дома или мне было не до неё, она в нетерпении начинала колотить по столу. С течением времени она то ли приноровилась и, натренировавшись, стала получать от этого удовольствие, то ли осознала, что может сама производить хоть какие-то действия, но она принималась стучать всё чаще и всё сильнее. Раньше столик покрывал слой чёрного лака, однако под её ударами лак начал сходить, обнажая истинный цвет древесины; трещины, расходившиеся из середины столешницы, напоминали лучистую звезду. Впоследствии даже эта звезда стала оседать под бесконечными ударами, и стол вот-вот должен был превратиться в бестолковую деревянную плошку. Я был поражён: в её тонких, словно стебель бамбука, руках, неожиданно оказалось столько силы, что она смогла обрушить стол, а сама при этом не получила ни царапинки. «Бум, бум, бум, бум» — мне казалось, что звук становится всё громче и яростнее и наполняет всё вокруг запахом крови.
Этот стук начал привлекать внимание людей. Сначала кто-то заглядывал к нам в дверь, или стучал в окно, или громко выкрикивал моё имя, стоя внизу и выражая своё неприятие бесцеремонного шума. Когда же они поняли, что теперь это неизбежная часть их существования, им осталось лишь, нахмурившись и скривив рот, приспосабливаться к новым условиям. Они всё ещё могли жить своей жизнью: есть, поливать цветы, заготавливать шестигранные угольные брикеты, чинить свои велосипеды, ставить клеёнчатые навесы, справляя похороны или же играть в покер и маджонг. Несколько стариков вместе со своим игорным столом постоянно следовали за тенью большого дома в поисках прохлады, делая полный круг по двору в течение дня. Если представить, что в какой-то из дней за столом станет на одного завсегдатая меньше, я с лёгкостью поверю в то, что это центробежная сила занесла его под клеёнчатый полог.
Как-то раз пришли люди из управления, осмотрели нашу старую кирпичную многоэтажку со всех сторон и вынесли решение об аварийном состоянии дома, после чего оформили какой-то документ, планируя провести ремонт. В душе я испытывал угрызения совести, мне казалось, что все эти несколько десятков квартир пострадали от тётушкиного стука.
У меня начали выпадать волосы, каждое утро я просыпался на подушке, усыпанной тонкими волосками, из которых можно было собрать целый пучок. Я тоже пристрастился бороться с мышиными норами: бдительно осмотрев всё жилище по периметру, я одновременно использовал и бамбуковую жердь, и щипцы, ещё и жену призывал на подмогу, принимаясь трудиться изо всех сил. К тому же я начал чаще ссориться с людьми. Как-то Го Цзюнь зашёл проведать меня, поблёскивая волосами, и как обычно стал рассказывать о том, как скверно обстоят дела с бюрократизмом в их организации. Поначалу я без малейших колебаний хотел выразить согласие с его словами. Он определённо почувствовал это и потому был столь красноречив и напорист в своих рассуждениях, так звонко грызя при этом семечки. Однако стоило мне открыть рог, и я сам не поверил своим словам. Я начал кричать, что демократия, чёрт бы её побрал, просто смехотворна, и разве демократия — это не угнетение талантливых людей массами простолюдинов, и разве продвинутый император не в сто раз лучше непродуманной демократии? Произнося это, я уставился на него с таким свирепым видом, будто заранее знал, что он не поступит ни в какую аспирантуру и не купит импортный телевизор, о котором давно мечтал.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Побледнев, Го Цзюнь ушёл в такой спешке, что даже оставил свой зонт. Жена с укоризной посмотрела на меня, убирая чашки и вычищая пепельницу, и упрекнула, с какой стати нужно было так ругаться с гостем.
— Разве я с ним поругался?
— Ну а как это называется? Видел, как ты вывел из себя Го Цзюня?
— Го Цзюнь? Го Цзюнь, говоришь? Он что, приходил?
«Бум, бум, бум» — тётушка вновь застучала по столу и заискивающе позвала меня ласковым голосом. В ту же секунду, демонстрируя необычайную проворность, я бросился менять утку и снимать нагретые пелёнки.
Когда суматоха улеглась, в доме стало тихо. Жена тихонько положила голову мне на плечо, будто хотела что-то сказать.
— Сходи проверь печку.
— Гиблое это дело.
— Ложись спать. — Она еле заметно вздохнула. — Тётушка сводит счёты.
— Сводит счёты?
— Так дядя Мин Сань сказал: сколько она до этого добра сделала другим людям, столько страданий теперь и причинит. По одному за каждое. Это называется «паралич взыскателя», неизлечимая болезнь.
— Сигареты ещё остались?
— Дядя Мин Сань сказал, пока она все долги не стребует, не умрёт.
— Иди уже спать.
Я снова взял в руки газету, но совершенно не помнил, о чём читал минуту назад. Вместо газеты перед моими глазами встала грохочущая темнота.
5
Помня о той плетёной корзине, что лежала за дверью, мне не следовало ненавидеть тётушку. Это было несправедливо, слишком несправедливо. Но всё было утрачено безвозвратно в тот миг, когда в клубах пара, словно смывшего с неё многолетнюю маску, передо мной предстала другая тётушка, таившаяся все эти годы; теперь уже ничего нельзя было изменить.
Эта женщина, всё ещё носившая имя тётушки, окончательно утратив человечность, самоуважение, искренность и рассудок, превратилась в деспота, расправляясь с каждым, кто сочувствовал ей или пытался помочь. Её жестокость заключалась в том, что она устраивала всё это от имени прежней тётушки, так что нам оставалось лишь безропотно покоряться. Ещё большей жестокостью было то, что из-за всего происходящего воспоминания о тётушке, какой мы её когда-то знали, почти полностью исчезли, та тётушка умирала в нашей памяти. Что же я мог поделать?
Эта женщина постоянно бросала на меня свирепые взгляды, то обвиняя сиделку в том, что та съела её свинину, то ругая нас за то, что мы не покупаем ей мясо, что мы сговорились и хотим заморить её голодом. Я купил пять будильников, но по-прежнему не был уверен, что смогу вовремя помочь ей справить нужду. В квартире постоянно стоял резкий зловонный запах мочи, из-за которого сиделки одна за другой в панике увольнялись. А ведь нанять сиделку было теперь непросто. У дверей агентства домашних услуг было черным-черно от толпившихся женщин, которые беспрерывно узнавали друг у друга, в какой магазин сейчас ищут работников, сколько платят за переработку после восьмичасового рабочего дня. Окунувшись в эту многоголосую волну, я чувствовал себя попрошайкой, без стыда и совести прикидывающим содержимое их кошелька.
Не знаю почему, но, как только наступило утро, я тут же постучался в дверь Лао Хэй. Высунув голову, она заморгала:
— Уже стемнело? А я ещё не поужинала.
Из-за двери вырывались бешеные звуки ударной музыки.