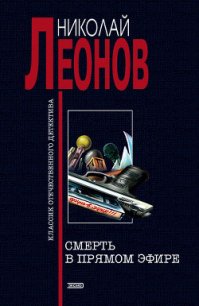Прошли времена, остались сроки - Крупин Владимир Николаевич (книги онлайн полностью бесплатно .txt) 📗
Право, смешно видеть седых и лысых мальчиков, вспоминающих шестидесятые. Они находили счастье свободы в записях битлов на рентгеновских снимках. Даже термин у торговцев был: на ребрах. Отведут в сторону и негромко: «Есть и на ребрах. Возьмешь? Но дороже». Все это называлось воздухом свободы.
Ну вот, дожили до счастья гласности, и можно стало извлечь на свет Божий то сокровенное, что проклятые партократы запрещали. И извлекли, и что предстало взорам: пошлость, разврат и насилие. Сказанное не значит, что я жалею партократию, отнюдь. Она выгнила изнутри оттого, что на нее влияли те, на кого влиял Запад. Ведь наивно думать, что от власти что-то зависит, потому что сама власть зависима. От кого? Да от тех же детей, которые слушали музыку на ребрах, ходили на закрытые просмотры. А что такое закрытый просмотр? Это процентов на десять Феллини и Антониони, а на девяносто – порнуха.
Для кого-то же пели Марио Ланца, Мария Каллас, Элизабет Шварцкопф, Рената Тебальди, для кого-то же дирижировали Герберт фон Караян и Клаудио Аббадо, – они не их выбрали в образцы для подражания, не их искусство, а хрипение, визги. А что классика? Классика думать заставляет. А думать уже нечем – с чердака крыша съехала, ветер гуляет по чердаку. Разве не круто? Прикинь. В натуре, не стремно. А взрослые дяди очень заботятся о деточках. Миленькие, ведь думать-то тяжело, на себе испытали, вам поможем. Сочинение изложением заменим, литературу и язык из школы изгоним, и будет сплошной английский для бизнеса, а свой будем упрощать и упрощать и доведем до мычания, скоро же будет не жизнь у вас, а сплошные инстинкты. А мы еще чего-нибудь на Западе собезьянничаем.
За стекло затолкаем жить, запустим туда политика, который будет торопить ваше спаривание, или писателя – специалиста по прямой кишке. А то на остров вывезем и будем хихикать, глядя как вы превращаетесь в дикарей.
Ну, и так далее. Словом, продолжаем плясать под «завоеванные марши». Все дело в уровне организаторов этих плясок. Если они делают такие передачи, угнетающие психику, унижающие, развращающие, значит, они сами еще хуже и стаскивают остальных на свой уровень. В этом все дело. А там и ад рядышком. Но провалятся в него не заблудшие и обманутые из поколений, прозванных собачьими именами – пепси, секси пофигистов, а организаторы. Зная историю предыдущего времени, можно утверждать с точностью, что так и будет.
Подкова
Кузня, как называли кузницу, была настолько заманчивым местом, что по дороге на реку мы всегда застревали у нее. Теснились у порога, глядя, как голый по пояс молотобоец изворачивается всем телом, очерчивает молотом дугу под самой крышей и ахает по наковальне.
Кузнец, худой мужик в холщовом фартуке, был незаметен, пока не приводили ковать лошадей. Старые лошади заходили в станок сами. Кузнец брал лошадь за щетку, отрывал тонкую блестящую подкову, отбрасывал ее в груду других, отработавших, чистил копыто, прибивал новую подкову, толстую. Казалось, что лошади очень больно, но лошадь вела себя смирно, только вздрагивала.
Раз привели некованого горячего жеребца. Жеребец ударил кузнеца в грудь (но удачно – кузнец отскочил), выломал передний запор – здоровую жердь – и ускакал, звеня плохо прибитой подковой.
Пока его ловили, кузнец долго делал самокрутку. Сделал, достал щипцами из горна уголек, прикурил.
– Дурак молодой, – сказал он, – от добра рвется, пользы не понимает, куда он некованый? Людям на обувь подковки ставят, не то что. Верно? – весело спросил он.
Мы вздохнули. Кузнец сказал, что можно взять по подкове.
– На счастье.
Мы взяли, и он погнал нас, потому что увидел, что ведут пойманного жеребца. Мы отошли и смотрели издали, а на следующий день вернулись.
– Еще счастья захотели? – спросил кузнец.
Но мы пришли просто посмотреть. Мы так и сказали.
– Смотрите. За погляд денег не берут. Только чего без дела стоять. Давайте мехи качать.
Стукаясь лбами, мы уцепились за веревку, потянули вниз. Горн осветился.
Это было счастье – увидеть, почувствовать и запомнить, как хрипло дышат порванные мехи, как полоса железа равняется цветом с раскаленными углями, как отлетает под ударами хрупкая окалина, как выгибает шею загнанный в станок конь, и знать, что все лошади в округе – рабочие и выездные – подкованы нашим знакомым кузнецом, а мы его помощники, и он уже разрешает нам браться за молот.
Лодка надежды
У рыбацких лодок нежные имена: Лена, Светлана, Ольга, Вера... Я шел с рыбаками на вечерний вымет сетей на баркасе «Надежда» и пошутил, что с лодкой надежды ничего не может случиться.
– Сплюнь! – велел старший рыбак.
Солнце протянуло к нам красную дорогу, и на конце этой дороги волны нянчили наш баркас.
Пришли на место. Выметали сети. Отгребли, запустили мотор.
Рыбак, тяжело ступая бахилами, подошел и сел. Помолчал.
Прожектор заката вел нас на своем острие.
– Надежда! – сказал рыбак. – На этой «Надежде» нас мотало, думали: хватит, поели рыбки, сами рыбкам на корм пойдем.
От лодки разлетались белые усы брызг, как будто лодка отфыркивалась в обе стороны.
– А ты ничего, – одобрил он. – Выбирать пойдешь?
– Пойду.
И вот, хоть верь, хоть не верь, своей дурацкой шуткой я накликал беду. Когда на следующий день мы выбирали сети, налетел шторм.
Лодку швыряло, как котенка. Ветер ревел так, что уничтожал крик у самых губ.
Вернув рыбу морю и отдав пучине сети, мы все-таки выгребли. Когда, обессиленные, мы лежали на песке и волны, всхрапывая от злости, расшатывали причал, он крикнул:
– Как?
Я показал ладони.
– Заживет!
Я согласился, но все равно сказал, что имя у лодки хорошее. Он засмеялся.
– Жена моя – Надя. Каприз ее был. Назови, говорит, лодку, как меня, тогда выйду.
– Хорошая?
– Лодка? Сам видел.
– Жена!
– Об чем речь. Сейчас с ума сходит.
Он стащил сапоги, вылил воду и хитро посмотрел на меня:
– Хочешь, надежду покажу?
– Да.
Я подумал, что в поселке он покажет свою жену Надежду.
– Вот! – Он показал мне свои громадные ладони, величиной в три моих.
Где-то далеко
Много времени в детстве моем прошло на полатях. Там я спал и однажды – жуткий случай! – заблудился.
Полати были слева от входа, длинные, из темно-скипидарных досок.
Я проснулся: темень темная. Мне понадобилось выйти. Пополз, пятясь, но уперся в загородку. Пополз вбок – стена, в другой бок – решетка. Вперед – стена. Разогнулся и ударился головой о потолок. Слезы покапали на бедную подстилку из чистых половиков.
Тогда еще не было понимания, что если ты жив, то это еще не конец, и ко мне пришел ужас конца.
Все уходит, все уходит, но где-то далеко-далеко, в деревянном доме с окнами в снегу, в непроглядной ночи, в душном тепле узких, по форме гроба, полатей ползает на коленках мальчик, который думает, что умер, и который проживет еще долго-долго.
Морская свинка
Я ходил в лаптях. Пишу об этом и безо всякой гордости, и безо всякой грусти. Помню лучину, деревянную борону, веревочную упряжь, глиняные толстые стаканы, морскую свинку, таскавшую билетики с предсказанием судьбы... Я много жил. Я помню средневековье.
В воспоминаниях, даже в небольших по времени, прочтется прогресс. Толстой дожил до синематографа. Я тоже до чего-нибудь доживу. Тут можно ехидно улыбнуться. Но вопрос как читать.
Да, о свинке. Она вытащила мне бумажку с записью моей судьбы, но не успел я вчитаться в нее, как билетик отобрали: желающих узнать свою судьбу было больше, чем судеб.
Амулет
В то время я еще не учился. У нас жила девочка, бессловесная удмуртка. Она жила зиму или две, ходила в школу. Тогда мало было школ по деревням.
Питалась она очень бедно, почти одной картошкой. Мыла две-три картофелины и закатывала в протопленную печь. Они скоро испекались, но не как в костре, не обугливались, а розовели... Излом был нежно-серебристым, как горячий иней.