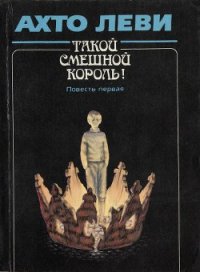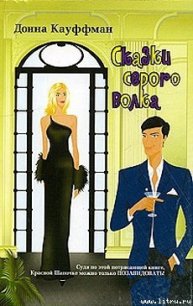Записки Серого Волка - Леви Ахто (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений .TXT) 📗
– О чем ты думаешь? Что ты умеешь?
Я понял, к чему он клонит, и взбесился. Ведь и сам не хуже знаю, где и когда дурака свалял, и нечего теребить болячки.
А ему хоть бы что, пошла математика: «два года убил в тюрьме, а мог закончить три клаcca в школе колонии или приобрести какую-нибудь специальность в промзоне…» и т. д.
Ну вот, тут я и вскипел и начал, в свою очередь, обвинять начальство, кого за что, одного справедливо, но другого, пожалуй, и нет. Если разобраться, не так легко воспитывать взрослых людей, упорно сопротивляющихся всему положительному, и колонии их много.
Ведь я сам безошибочно могу сказать, кого из нас можно сделать человеком, а кого хоть сегодня, хоть завтра убей – все равно. Но это лишь потому, что в течение многих лет и днем и ночью, в карцерах, в тюрьмах, на работе и на отдыхе – везде и всегда я с ними; потому что мне доступнее их мысли, психика, жизнь и стремления, чем любому администратору, любому воспитателю, сколько бы тот эту массу ни изучал, сколько бы знаний он ни имел Что касается моих суждений, пусть капитан Белокуров не обижается.
Бесспорно то, что здесь должны быть руководителями люди с сильными качествами массовика и педагога (педагога потому, что заключенные, эти взрослые люди, во многом все же дети и разум у них детский), они должны обладать высоким интеллектом и высокими принципами; нужны не прогоревшие где-то карьеристы и бюрократы, а люди, имеющие душу, ум и совесть…
А недавно совершенно случайно я был вынужден отдать ему мои записи для чтения. Я отдал не все записи, но он, без сомнения, захочет читать и те, что я не отдал. А я уверен, что их читать ему будет неприятно. Кто гарантирует сохранность их? Если не дать?.. Этого не допускает мое самолюбие: грош мне цена, если буду отрицать и скрывать мои мысли и понятия.
Если я сейчас думаю иначе, чем думал когда-то, то, может, когда-нибудь я буду думать иначе, чем думаю сейчас. И возможно, многое окажется тогда иным, но до этого нужно дожить. Чтобы так было, необходимы события, факты, способные изменить мое мировоззрение. А сейчас я могу описать свою жизнь лишь такой, какая она есть, и не иначе. А сам я – хорош или плох – такой, каким формировала меня жизнь.
В больнице
Хочется сосредоточиться, чтобы писать, но это почти невозможно из-за двух дебилов, живущих со мной в одной палате. Они своим существованием буквально отравляют воздух. Это люди, считающие ниже своего достоинства кого-либо уважать. Женщины для них без исключения лишь проститутки, ни одна из них не может противостоять их чарам или деньгам… Целыми днями поют блатные песни и занимаются совсем недостойным мужчин делом – сплетничают. Они судачат о людях, находят в них уйму недостатков и, конечно, совсем не уделяют внимания своим.
Завтра меня выпишут, подлечили немного и – опять в колонию. Уже весна, и скоро свобода… Здешние врачи быстро поставили меня на ноги. Здесь я и встретился снова с Вах-Вахом. Видимо, он частенько лежит в больнице. У него язвенная болезнь, и недавно его уже третий раз оперировали, причем, надо сказать, по его собственной вине.
Как-то, прогуливаясь по коридору, я заметил через стеклянную дверь в одной из хирургических палат чьи-то огромные тоскливые и очень знакомые глаза, которые каждый раз, когда я проходил мимо, с немым вопросом за мною следили. В них был словно упрек. И тогда я заметил, что у него смешной нос. Арсен?! Я вошел в палату. Да, это был он, хотя узнать его было нелегко: в кровати лежал невероятно худой – совершенный скелет – страшный, обезображенный болезнью человек. Он был настолько слаб, что не мог шевелить ни рукой, ни ногой, даже говорить он толком не мог, было чрезвычайно трудно его понять, и в палате он лежал один. Оказывается, рассказывали санитары, ему сделали резекцию желудка. Операция прошла благополучно, и все было бы хорошо, если бы не посылка… Дело в том, что Арсен сразу же после операции получил из дому посылку со всякими вкусными вещами и, хотя ему это категорически запрещалось, съел, можно сказать, половину этой посылки – мед, фрукты и разное другое. А утром он взорвался, то есть живот его вздуло, полопались швы, и Арсена снова оперировали. Только теперь ему с каждым днем становилось все хуже и хуже, и уже никто не надеялся, что он выживет. Кормить его надо было с ложечки, а ходил он под себя, как маленький ребенок. Все знали: не сегодня завтра помрет. Может быть, он бы и умер, потому что бывают положения, когда самые лучшие врачи бессильны; положения, когда человека может спасти лишь одно – любовь. И если она где-то есть, рядом, ты спасен, если же нет – каюк тебе. Может быть, и я бы в свое время умер, если бы мое сердце, совершенно ослабевшее из-за потери крови, не поддержал своими ласковыми заботами, своими ободряющими беседами Арсен. Помню, когда его выписывали, уже одетый в арестантскую спецовку, он пришел попрощаться со мной. Я еще лежал тогда. Он присел у моей кровати, поговорили немного, попрощались. Он ушел. А потом я нашел под подушкой у себя четыре мандарина, видимо, ему из дому прислали.
Если ты мышь обласкал и она тебя полюбила, в бороде твоей жила, если ты воробья выкормил – он тебя полюбил, от тебя улетать не хотел, ты полюбишь и человека, и он тебе тем же ответит. Разве мог я забыть, чему меня научил Арсен, – милосердие к несчастным, любовь к человеку. Мы поменялись ролями на этот раз. И мне совсем не было противно убирать за ним, менять его постельное белье. Я не уставал его кормить и следить за тем, чтобы ничто не мешало его сну, чтобы всегда было тихо в палате, чтобы всегда был чист воздух. Я не уставал от его бесконечных капризов. На тумбочке лежали письма от его родных, на которые он уже давно не отвечал. Я написал за него его родным, что он болен, что он непременно выздоровеет. Я их не обманул. Он выздоровел, лежит теперь в общей палате, ест, шутит, смеется. Собственно, он и не лежит, он уже понемногу ходит.
А меня завтра выпишут. Поеду в бригаду. Говоря по правде, соскучился. Только теперь меня переведут в другую бригаду, в дорожную. Эта бригада состоит тоже из малосрочников и ходит под отдельным конвоем, но не хочется уходить с погрузки, там настоящие парни и работа что надо. И все же придется уйти. Меня теперь туда не берут: у меня язва и еще какая-то штука в левом боку. Товарищи давно заметили, что начинаю сдавать, все потихоньку старались уговорить меня перейти в дорожную, все чаще отдавали мне штабеля полегче, ставили на четверку и т. д. И я как-то тянул, работал. Но однажды вдруг в глазах потемнело, я бросил багор и упал. Через час меня отвезли в зону и поместили в санчасть. Я лежал, уставившись в потолок, и вспоминал, как когда-то давно, на острове, симулировал больного. Кажется, был у меня тогда «детский паралич»… Как давно это было, сколько прожито с того дня, и какой жизни..
Вечером с работы пришли парни. Они сразу от ворот прибежали в санчасть узнать, как мои дела. Набилась полная палата народу, и сочувствие этих грубых людей, выраженное опять-таки не без мата, было таким искренним. Я удивляюсь себе: как мог я жить среди них годами и видеть только моральных и физических уродов, обитавших в карцерах, БУРах, не вылезавших из зоны, пуще смерти опасавшихся загорбатиться от работы, и не замечать этих здоровых, крепких, жизнерадостных и дружных парней. Ведь они прошли, как говорят, огонь, воду и медные трубы; они окунулись в грязь до дна, но они выбрались, она стала им противна, и они ушли на чистый воздух, в лес. А из леса они уйдут на свободу. Уйдут с трудовыми мозолями на руках, уйдут, готовые к испытаниям, ко всему. Ну что ж, и меня грязь не затянула, я тоже пришел к ним на чистый воздух – в лес. И я совсем не виноват, что вот болею и должен теперь от них уйти. Но я не вернусь в зону, в небытие, нет – я иду также на чистый воздух, в дорожно-ремонтную бригаду, назло всем болячкам.
Когда меня на носилках вынесли из зоны, чтобы отправить в больницу, бригада провожала меня до ворот. Парни отняли у санитаров носилки и понесли их сами. Говорили о пустяках, да не в этом дело… Какая разница, о чем говорить, – это не главное. Главное – это проводить друга, быть с ним до самых ворот, пожать его руку на прощанье.