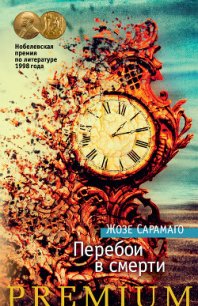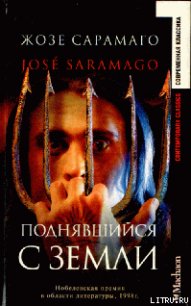Евангелие от Иисуса - Сарамаго Жозе (книга жизни TXT) 📗
Иисус погладил ягненка по голове, и тот в ответ поднял ее и потыкался влажным носом ему в ладонь, отчего юношу пробрала дрожь. Волшебство внезапно рассеялось — на дороге со стороны Еммауса замелькали посохи, показались развевающиеся хитоны, закачались на плечах котомки: шла, славословя Господа, другая толпа паломников, с другими ягнятами на веревках. Иисус взял своего на руки, как ребенка, и двинулся дальше. Он не был в Иерусалиме с того теперь уже далекого дня, когда его привела туда надобность узнать, что стоят его вины, муки его совести и как совладать с ними — справляться ли с ними, разделенными, словно наследство, на доли, поочередно или принять во всей целокупности, как принимает каждый из нас свою смерть. Грязно-бурой рекой втекала толпа на площадь перед папертью Храма. Иисус с ягненком на руках глядел на мельтешение, суету и толчею: одни всходили по ступеням, ведя или неся обреченных в жертву животных, другие спускались уже налегке, с просветленными лицами, восклицая «Аллилуйя!», «Осанна!», «Аминь!», или молча, поскольку в их случае ликовать было бы так же неуместно, как вскричать при выходе из Храма Иерусалимского «Эвоэ!» или рявкнуть зычное «Ура!», хотя, в сущности говоря, разница между всеми этими возгласами не столь существенна, как кажется, ибо мы выражаем ими понятие наивысшего совершенства, некую квинтэссенцию нашего торжества, но проходит время, слова снашиваются от частого употребления, и мы, произнося их, думаем иногда: А к чему все это? — и ответа не находим.
Над Храмом уходил в небеса столб дыма, несякнущего, постоянно питаемого новыми и новыми всесожжениями, призванного показать всему миру, сколько из тех, кто принес жертвы, были прямыми и законными наследниками Авеля, сына Адама и Евы, некогда принесшего в дар Господу от первородных стада своего и от тука их, и Господь призрел на Авеля и на дар его, то есть принял его жертвы благосклонно, а дары Каина, которому, кроме простых плодов земли, преподнести было нечего, отверг, а почему — и по сей день остается загадкой. Если Каин убил Авеля именно по этой причине, то мы с вами можем спать спокойно: нам уже ничего не грозит, ибо все мы жертвуем примерно одно и то же, и, чтобы удостовериться в том, довольно лишь послушать, как трещит на огне жир, он же тук, как жарится мясо. И Господь со своих заоблачных высот с удовольствием принюхивается к благоуханию резни и аромату бойни.
Иисус крепче прижимает ягненка к груди — почему Бог не хочет, чтобы окропили его алтарь молоком, соком самого бытия, соком, переходящим от одной земнородной твари к другой; почему нельзя бросить на алтарь, как в борозду пашни, пригоршню пшеничных зерен, из которой выпекут основу основ — бессмертный хлеб?
Ягненку, который совсем недавно был щедрым подарком неведомого старика, не увидеть, как завтра взойдет солнце, — пришла пора нести его по ступеням Храма, предать ножу и пламени жертвенника, словно он не заслужил права жить и совершил преступление против исконного властелина пастбищ и басен, испив все-таки из ручья жизни. И тогда Иисус, как бы под воздействием некоего озарения, наперекор покорности и почитанию Закона, которому учился в синагоге, вопреки слову Божьему, решил, что ягненок этот не умрет, что существо, которое подарили ему для смерти, останется живо, хотя сам он, придя в священный город Иерусалим принести жертву, уйдет отсюда еще с одним грехом на совести, словно мало прежних, и наступит день, когда придется заплатить за все, ибо Господь ничего не забывает. На какой-то миг страх перед этой неминуемой карой заставил его заколебаться, но воображение молниеносно нарисовало ему жуткую картину: безбрежное море крови, выпущенной из агнцев, тельцов и всех прочих, кого приносил в жертву человек со дня сотворения своего, ибо именно для того, чтобы поклоняться и приносить жертвы, и появилось в этом мире человечество. Воображение, разыгравшись всерьез, представило ему, как багряный кровяной поток льется со ступеньки на ступеньку храмовой паперти, подбираясь к самым его ногам, а он стоит, подняв к небесам своего агнца — обезглавленное и мертвое его тело. Он потерял представление о действительности, словно оказался внутри плотного пузыря, наполненного безмолвием, но пузырь этот вдруг лопнул, разлетелся на куски, и уши Иисуса вновь наполнились гомоном голосов, криками, молитвами, песнопениями, жалобным блеяньем ягнят и — на миг перекрывшим и заглушившим все остальное — низким, тройным, трубным звуком рога — бараньего, изогнутого спиралью. Сунув своего агнца в котомку, как бы пряча его от неизбежной опасности, Иисус бросился с площади прочь, затерялся в паутине узеньких проулков, сам не зная, куда бежит. Он опомнился и остановился уже в поле, выйдя из города через северные, Рамалийские ворота, те самые, что захлопнулись за ним, когда он пришел из Назарета. Он сел на обочине под смоковницей, вытащил из сумы ягненка, и люди, не удивляясь, думали, должно быть: Устал, набирается сил перед тем, как отнести ягненка во Храм, какой милый, и нам с вами не угадать, про кого речь — про Иисуса или про ягненка. По нашему личному мнению, оба милы, но если уж непременно надо выбрать одного из двоих, присудим все же яблоко ягненку, но с одним условием — не вырастать в здоровенного барана. Иисус лежит на спине, держа конец веревки, чтобы ягненок не убежал, но это, пожалуй, излишняя предосторожность: тот вконец обессилел, и даже не по малолетству, а от волнения, от беготни взад-вперед, оттого, что таскают туда-обратно, то берут на руки, то спускают наземь, то несут, да помимо всего прочего, утром его не подпустили к матери, ибо являться на тот свет с полным брюхом, будь ты ягненок или мученик, неприлично. И вот Иисус лежит на спине, дыхание его мало-помалу выравнивается, он видит небо сквозь ветви смоковницы, чуть колеблемые ветром, и от этого солнечные пятна пляшут перед глазами в просветах листвы: должно быть, шестой час, солнце еще высоко, и тени коротки, трудно даже и представить себе, что ночь, которая неторопливым выдохом погасит это ослепительное сияние, уже невдалеке. Иисус отдохнул и теперь обращается к ягненку: Отведу тебя назад, в стадо, и начинает подниматься. По дороге к Иерусалиму идут люди, за ними — еще несколько человек, и, вглядевшись в них, Иисус одним прыжком вскакивает на ноги; первое его побуждение — убежать, но, разумеется, он этого не сделает, не решится, и как же иначе, если он узнает мать и младших братьев — Иакова, Иосифа, Иуду; видит он и сестру Лизию, но она женщина, а значит, не в счет, хотя по порядку появления на свет занимает место между Иаковом и Иосифом. Они еще не видят его. Иисус спускается к дороге, схватив ягненка, но в глубине души подозревает, что сделал это, чтобы руки были заняты. Первым замечает старшего брата Иаков, он что-то торопливо говорит матери, та оглядывается, все ускоряют шаги, и Иисус, идущий им навстречу, — тоже, однако с ягненком на руках не побежишь, и мы так долго распространяемся об этом, будто не хотим, чтобы встреча наконец произошла, но, поверьте, дело не в этом, любовь, любовь материнская, сыновья, братская, окрылила бы их, но ведь существует помимо любви и еще кое-что — вы вспомните, как они расстались, а потому естественны и смущение, и известная неловкость, и потом, мы же не знаем, какие последствия имели столь долгая разлука и полное отсутствие вестей друг о друге на протяжении многих месяцев. Но если идти, то в конце концов дойдешь, и вот они встретились, стали лицом к лицу. Благослови, мать, говорит Иисус. Благослови тебя Бог, говорит Мария. Они обнялись, потом настал черед братьев и лишь после того — Лизии, и никто из них, как мы заранее предвидели, не знал, что говорят в таких случаях, и Мария не собиралась вскричать «Вот так встреча!», Иисус же — ей в тон:
«Вот уж не думал, не гадал, каким ветром занесло вас сюда?», и так понятно каким — близится праздник опресноков, иначе называемый Пасхой Господней, оба ягненка служат верной приметой, и вся разница между ними в том лишь, что одному суждено умереть, а другой этой смерти счастливо избежал. Ты ушел и как в воду канул, сказала наконец Мария, и тут ручьем хлынули у нее из глаз слезы — ее первенец, ее старшенький стоял перед нею, совсем большой, совсем взрослый, с пробивающейся бородкой на осмугленном солнцем, выдубленном ветром и пылью пустыни лице, какое бывает у тех, кто живет под открытым небом. Не плачь, я делом занят, я теперь пастух. Пастух? А я-то надеялась, что займешься отцовским ремеслом. Мне выпало стать пастухом. А когда ты вернешься домой? Не знаю, когда-нибудь. Но хоть сейчас пойдем с нами во Храм. Я не пойду во Храм. Почему, ведь у тебя вот и агнец припасен.