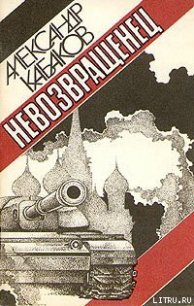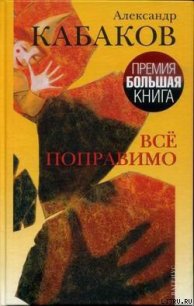Последний герой - Кабаков Александр Абрамович (читать книги без сокращений txt) 📗
Ты дурак…
Не плачь.
Я не плачу… ты дурак…
Не плачь.
Я не плачу… я тебя люблю…
И я тебя люблю.
Ты хоть ел сегодня что-нибудь?.. ну, что это такое, ты не ешь, не спишь, пьешь, и еще удивляешься, что работать не можешь… вообще не понимаю, как ты еще живешь, сколько у тебя сил… у тебя еда-то дома есть?.. Женя оставила?.. сосиски, какая гадость… я бы хотела сварить тебе суп… ты ведь любишь гороховый суп, да, с грудинкой, да?.. я так хорошо варю суп, ты не представляешь… сварить тебе суп, налить себе рюмку… ладно, ладно, и тебе… и потом лечь вместе, завернуться… прижаться, влезть в тебя… ну, можно телек включить… и заснуть потом, так, обнявшись… и потом опять заснуть… и утром поваляться вместе… никуда не спешить, пожить так хоть немного, быть вместе и никуда не спешить… но потом ты должен будешь отпустить меня погулять одну… не сердись, не сердись, пожалуйста, я должна иногда быть одна, гулять… и я так люблю спать рядом с тобой, потому что я тогда и одна, во сне, и с тобою, рядом, прижавшись… наверное, это плохо, я зависимое существо… бывают женщины самостоятельные, сами делающие свою судьбу, карьеру… а мне никогда даже не хотелось… понимаешь… для меня это естественно, зависеть от мужчины и подчиняться ему… это несовременно, да?.. все эти феминистки… да я тоже ненавижу феминисток, чего ты кричишь… но, все-таки, так, как я, жить, наверное, тоже неправильно… но, мне кажется, есть одна вещь, в которой я тоже такая… как они, эти эмансипированные, деловые, независимые, да… что я имею в виду?.. извини… понимаешь… только не обижайся, в этом, по-моему, нет ничего для тебя обидного, даже наоборот… ну… дело в том, что мужчин выбираю я сама… и мне однажды сказали, что я их использую, но это неправда… я выбираю сама, действительно, я могу даже довольно откровенно проявить инициативу, дать понять… но потом я попадаю в зависимость и расплачиваюсь этим за свой выбор… ты понял?.. если можно сказать, что использую… может быть… немножко… только в постели, понимаешь, в траханьи… ну, как используют инструмент… ты не обиделся?.. ты мой инструмент, я тобой добываю счастье… люблю тебя очень… ох… не могу больше… люблю…
Я хочу видеть тебя, эти телефонные разговоры, от них едет крыша, мы оба сумасшедшие, знаешь, это очень странно, и ты подумаешь, что я просто сейчас увлечен, и преувеличиваю по своему обыкновению, накручиваю себя, но это правда, уверяю, со мною действительно такое происходит впервые, мне шестой десяток, у меня было черт его знает сколько женщин, жены, долгие романы, одна ночь в купе, десять дней у моря, рабочий стол в старой моей мастерской, в худкомбинате, случайное пересечение гастролей и гостиничный номер, чужая супружеская кровать, спящий ребенок в соседней комнате, были любопытство, постоянно тлеющая похоть, была страсть, привычка, просто человеческая привязанность, близость, один или два раза случилось краткое, почти мгновенное ослепление, казалось, что нашел, но такого, как к тебе, не было никогда, наверное, так любят детей, но во мне, ты знаешь, отцовские чувства не бурные, наверное, так любят любимых жен, вот что, но у меня, оказывается, любимых раньше не было, понимаешь, здесь все вместе, когда я смотрел на тебя, я чувствовал гордость, вот какая красивая у меня девочка, можете все завидовать, и просто было приятно смотреть, мне просто очень нравится твоя внешность, все в тебе правильно, знаешь, почти обо всех думаешь, да, красивая баба, вот только нос, или рот, или еще что-нибудь, немного бы убрать, прибавить, и был бы вообще полный порядок, а в тебе мне ничего не хочется менять, ничего, да ведь ты же знаешь, не я же один считаю тебя красавицей, а страсть — это что-то еще, кроме всего, кроме нежности, кроме восхищения, в тебе так странно сочетается полная свобода с детской, даже какой-то деревенской стыдливостью, эти твои поцелуи только до пояса, и ты так смешно раздеваешься, втягивая живот, сгибаясь, пряча себя, сжимая и скрещивая ноги, и выкручиваешься, приседаешь, когда я хочу повернуть тебя, раскрыть, и твой характер, мне все подходит, помнишь, в самом начале ты смешно сказала, а если я вам не подойду, я даже не понял, как это не подойдете, вы мне очень нравитесь, а ты улыбнулась так, знаешь, скривила губы, у тебя есть такая улыбка, и пояснила, ну, не устрою, не понравлюсь в этом смысле, и смутилась, и ты же не притворялась, что стесняешься, и еще эта твоя покорность, и… але, какой Миасс, я не заказывал, что, меня вызывают, ну, давайте, извини, я тебе потом перезв… але, да, слушаю, да, Шорников, да, откуда вы взяли, что я меняюсь, где вы прочли объявление, нет, это ошибка, ошибка, говорю!
Але, это я.
Вас не слышно, перезвоните…
2
После возвращения начался уже абсолютный кошмар и все пошло очень быстро.
День ото дня становилось яснее, что я не могу без нее жить, в самом буквальном смысле этого слова, но жить приходилось, она не могла и не хотела уходить из семьи, там были связи, корни, настоящая жизнь, именно семья — разные люди, ребенок, родители, какие-то старые мужчины и женщины, а не просто муж, там был покой, привычки, совершенно непредставимый для меня обычай ужинать всем вместе, тихая и достойная привязанность друг к другу.
Еще более непостижимым для меня было то, что старомодный этот дом, который она так ценила, не мешал ни ее страсти ко мне, вполне необузданной, ни нежности и даже заботе, которые я чувствовал, ни такой близости между нами, какой я прежде действительно не испытывал ни с кем.
Однажды я назвал ее двоемужней, она согласно усмехнулась.
Но видеться мы из-за этого ее старосветского уклада почти не могли, да и перезваниваться было непросто. Муж мог вернуться из офиса в любой момент, мог заехать днем пообедать, мог привезти с собой весь свой совет директоров, мог позвонить, попросить ее быстро собраться и увезти с собой на какой-нибудь прием, в бизнес-клуб, просто в ресторан, в компанию своих партнеров, которые, к тому же, все были его старые друзья, университетские, комсомольские… Много ели, много пили, сидели допоздна. Были они все, в сущности, совсем неплохие молодые ребята, любили друг друга и своих близких, серьезно делали свое новое дело, помнили, что все они кандидаты, а то и доктора наук, и к нынешним своим президентствам и генеральным директорствам относились с некоторым юмором, не мешавшим, впрочем, делать деньги истово и фанатически. Стрельба, которая шла вокруг, их как бы не касалась, даже если стреляли в хороших знакомых — они продолжали строить жизнь, заводили новых детей, покупали землю, дома, устраивались надолго.
А я бежал к телефону каждый час — не было сил терпеть. Трубку брали мать, дочь, тетка мужа, муж. Ему надоели частые ошибочные звонки, он сменил все аппараты, теперь они были с определителями, более того — каждый номер, с которого звонили, оставался в памяти. Я стал звонить из автоматов, дозванивался, наконец, до нее, мы договаривались, когда она сможет вырваться из дому и позвонить мне.
Возможностей было две.
Была галерея, которую он ей купил, чтобы она не совсем уж затосковала дома, ей это очень нравилось, я зашел однажды и, к своему изумлению, не испытал отвращения — что обычно бывало в любой из бесчисленных теперь галерей. Она и ее подруга, с которой вдвоем они вели все дело, ездили по всем барахолкам города, скупали — платя иногда вчетверо против того, что просил автор — работы спившихся клубных оформителей, любителей-пенсионеров, пытающихся сделать какую-нибудь пользу из старого увлечения, бесконечные копии, сделанные с конфетных оберток, огоньковских репродукций, копии с копий, «незнакомки», «мишки», «ржи», «вечные покои» и даже «помпеи». Все это тесно висело на беленых стенах хорошо отремонтированного бывшего жэковского партбюро на Солянке, а по зальчику были расставлены гипсовые горнисты, головастые октябрята, бронзовые Горькие с хипповатыми патлами и усами, Чкаловы в шлемах — это волок их помощник, юноша, носивший габардиновый номенклатурный макинтош и черные очки blues brothers. Юноша был явно голубоват, они давали ему немного денег и кормили в маленькой комнате рядом с выставочным залом принесенными из дому салатами, он ел и рассказывал о тусовке, они чувствовали себя мамашами — да, в общем, и годились девятнадцатилетнему в матери, хотя и сами носили черные рейтузы, солдатские башмаки и кожаные куртки в молниях, как положено модным галерейщицам.