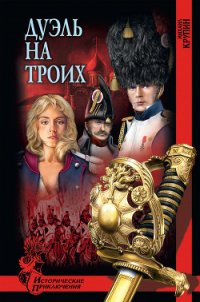Житие Ванюшки Мурзина или любовь в Старо-Короткине - Липатов Виль Владимирович (читать книги без регистрации полные txt) 📗
– В первом классе.
– Во. А на мои ноги, Вань, ты даже смотреть боишься. Ну это ты блажишь. Твое, а ты боишься, ног-то моих. Да ты мне их хоть отломи – мне они ни к чему, если тебя нет, Ванюшка!
– Но?
– Знаешь, сколько я подушек проплакала, что тебе с Маратом изменила? Ужасть! Проснусь – мокро под щекой. Вот. Так и живу! – Любка закрыла глаза. – Ребенка хочу! Не рожу – головой в Обь… Лучше моего мужа, может, человека нет, но я… Утоплюсь, Иван!
И, спохватившись, вскочила:
– Это не шантаж, Иван! Что ты, что ты, что ты – опомнись! Иван поднялся, подошел, осторожно привлек на грудь голову шалавой бабы, невесомо положил подбородок на теплый и пахучий затылок, свободной рукой тихо гладил вздрагивающее плечо. «Бедная, бедная ты зараза! Подружка ты моя златокудрая, ведь утопишься! Такая ты, что утопишься». Пахло от Любки, как и должно пахнуть от обских женщин: бельем, только что занесенным в дом с мороза, – посильнее был запах, чем арабских духов!
– Вань, ой, Вань!
– Но?
– Да ты никак плачешь? Меня по затылку ровно горячая пулька ударила… – Она говорила глухо, в пиджак Ивана. – Ты не сдурел ли? Ты это дело кончай, Ванюшка, плакать…
– Молчи, лучше молчи…
– Вот это, Вань, другое дело! Такой ты мне больше глянешься.
Молчали долго. Потом Иван прикоснулся губами к Любкиному затылку, тоже глухо сказал в душные волосы:
– Лю-ю-бка!
Костя ходит и сердито пыхтит… Настя сидит у окна… Мать рукой другую руку мучит… Филаретов А. А. красным карандашом годовой доклад Якова Михайловича вопросительными знаками метит – партийный глаз… А Иван Мурзин с Любкой Ненашевой топиться в Роми собрались…
– Ванюша!
Иван диким зверем стиснул Любку, хотя, ей-богу, не хотел, ему и без этого счастья хватало через край, когда нежно прижимал ее к себе. А вот схватил зверем, но Любка только радостно закричала:
– Вот и все! Вот и все!
11
На три четверти студентом третьего курса университета стал этой зимой заочник Иван Васильевич Мурзин – это был один из тех, простите, подвигов, о которых история может чисто случайно забыть. С шести вечера до шести утра – горы учебников, два часа – экзамены, остальное – деревянная кровать в гостинице «Сибирь». Конечно, смена занятий – это благо и даже некоторый отдых, но не до такой же степени, чтобы похудеть на восемь килограммов! Ирина Тихоновна, ненавидящая Ивана до того, что решила его сничтожить, схлестнув женатого и семейного с Любкой, за обедом пораженно сказала:
– Знаете, а вы стали еще широкоплечее.
Ирине Тихоновне посмотреть бы на Любку – балет! Любка, зараза такая, добыла откуда-то справку: мол, болела страшной азиатской простудой, чтобы деревня, которая с ходу поймет, чем «болела» Любка, посмотрела бы все-таки на справочку-то! ' Писатель Никон Никонович по мелким, но заметным любящим его людям признакам исподволь готовился уходить из пятикомнатного хрустального дворца в каменное свое логово, и было понятно, что Ирина Тихоновна мужу дорогу не загородит… Ясно-понятно: во-первых, он приходит в комнаты, не переобуваясь в «шлепки» (забывается), во-вторых, валится от усталости (забывается) на застеленную пикейным светлым покрывалом кровать, в-третьих, курит и пепел (забывается) сыплет где попало, часом и на полированную мебель… Конечно, Иван понимал, что дело тут в чем-то другом, а в чем – сказать не мог бы. Об этом и вправду целый роман надо было бы писать, только Никону Никоновичу его не осилить, куда там!… Иван ни капли не жалел Никона Никоно-вича и ни капли не сердился на Ирину Тихоновну, только уже в аэропорту, где его, конечно же, провожал Никон Никонович и куда Любке строго-настрого запрещено было являться, подумал, что было бы, конечно, лучше самому проводить знаменитого писателя на другой конец города в придуманную им страну, из столицы которой любовь к жене, оставленной за рубежом, была преогромной, словно океан: каждый на чужбине, на своей чужбине, оба к мукам любви добавляли черный перец ностальгии – вот жизнь! Ванюшке Мурзину такую бы любовь, вот такую бы ему любовь!
Писателя свободно пропустили на летное поле, к самолету, и, пока они шли позади небольшой толпы семнадцатого рейса, Никон Никонович – пальто распахнуто, волосы раздуваются (шапку не надел) – вздыхал без передышки и смотрел на Ивана тоскливо, словно ему самому придется сегодня входить в дом матери, жены Насти, Кости и со дня на день встретиться лоб в лоб с хорошим человеком Филаретовым А. А.
Разговаривать на летном поле невозможно, и Ванюшка этому был рад, потому что в последние минуты прощания говорить нечего. Когда народ начал подниматься по коротышке-трапу и до Ивана осталось человек пять, он полуобнял затосковавшего Никона Никоновича и сам так затосковал, будто все зубы заболели разом.
– Перебьемся! – крикнул Иван, потому что в это время заруливал на стоянку ТУ-104. – Перебьемся, Никон Никонович!
– Перебьемся! – в ответ кричал' писатель Никонов. – Перебьемся, Ванюшка!
Иван согласно билету оказался сидящим возле круглого иллюминатора и – вот совпадение! – с той стороны, откуда можно было видеть Никона Никоновича. Без шапки, пальто распахнутое, на ногах – серые подшитые пимы, руки засунуты в карманы легкого пальто так глубоко, что полы растопырились крылышками, толстый, но почему-то не короткий, точно имел высокий рост, а всего-то было метр семьдесят три…
– Внимание, граждане пассажиры! Рейс семнадцать Ромск – Пашево выполняет…
Встречать Ивана никто не был должен, так как, говоря с домом по телефону, он нарочно никаких точных сведений о своем возвращении не давал. Но, верно, перезвонили они в Ромск, и уж Ирина Тихоновна постаралась… Стоит возле деревянного зданьица законная жена Настасья Глебовна, сбоку дисциплинированно ждет председательский «газик».
– Здорово, Настя!
– Здорово, Иван!
Обнялись, поцеловались – нормально все, как у людей, как у путных. Жена Настя выглядела хорошо: румяная от мороза, высокая, стройная. «Может, не знает! – подумал Иван. – Может, еще не дошло? Предатель. Кобель».
– Молодец, Мурзин! – отобнимавшись, бодро сказала Настя. – Талант, Каштанка, талант!… Посмотри, как твой сыночек ломает дверцу машины. Не могла оставить дома.
Костя!… Расплющил нос о плексиглас, который выдавливал вместе с брезентом, а шофер Ромка держит сына тракторного бригадира за ворот, чтобы не выпал на температуру сорок ниже нуля. И вот уже Иван прижимает Костю к холодному полушубку, а сынуля вопит от радости почище сирены с катера «Метеор». Морда у Кости розовая, сбитый весь, крепкий, в папашу, но глаза мамины, теперь окончательно понятно, что мамины, хотя Прасковья говорила: «Мои!»
– Пап! Па-а-а-па!
– Держи, парень!
Игрушечный автомат. Нажмешь на спусковой крючок – раздается треск, лампочка зажигается, то есть все – как у старого Костиного автомата, но Федот, да не тот! Автомат-то – привезенный специально для Кости из той, чужой половины Берлина писателем Никоновым, человеком бездетным. Этот детский автомат и впрямь, как настоящий: обоймы патронов, холод стали, тяжесть стали, вороненость стали, стрельба одиночными патронами, стрельба очередью…
– Здоров, Ромка! – сказал Иван. – Да и поехали, ежели ты при заведенном моторе…
За всю дорогу – как-то так уж получилось за Костиным тарахтеньем – Иван с Настей не перекинулись ни словечком, оба обращались только к сыну, который крутился между ними или перелезал к Ромке на переднее сиденье, и друг на друга почему-то не смотрели. А когда подъехали к дому, Иван и вовсе захолодел: как вдвоем остаться?
– Мать-то скоро? – спросил Иван, увидев сенные двери запертыми на сосновую щепку. – Неужто нельзя два часа дома побыть…
В деревне Старо-Короткино дома и квартиры никогда не запирались, двери стояли нараспашку, а зимой – сосновые щепочки; они для того в скобу вставлены, чтобы ветер двери не распахивал и снегом сени не нагружал.
Костя, Настя, Иван разулись, разделись, все аккуратно расставили, развесили. Сели. Посидели, помолчали. Иван тосковал по-черному. Настя – она непрочно устроилась на краешке стула – только усмехнулась: