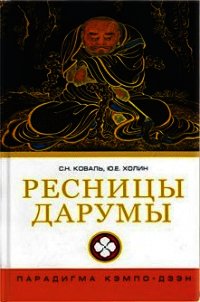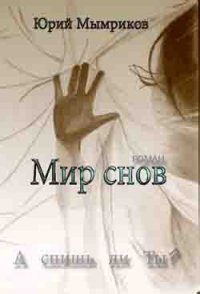Дзен и искусство ухода за мотоциклом - Башков Геннадий (читать книги онлайн без сокращений .TXT) 📗
Качество. Вот о чём они говорили всё это время. “Милый мой, будь так любезен, брось ты всё это напрочь, — припомнил он, как об этом сказал один из них, — не хватайся ты за эти пустяковые вопросы. Если всё время будешь спрашивать, что это такое, у тебя не останется времени, чтобы понять это.” Душа. Качество. Одно и то же?
Волна кристаллизации катилась дальше. Он видел два мира одновременно. С интеллектуальной, ортодоксальной, стороны он теперь видел, что качество — разделительный термин. То, чего ищет любой аналитик интеллектуал. Берёшь аналитический нож, наставляешь лезвие прямо на термин качество и слегка, не очень сильно, стукни. Тогда весь мир раскалывается, разламывается на две части: круглое и плоское, классическое и романтическое, техническое и гуманитарное, и раскол получался чётким. Нет ни-каких лохмотьев. Нет путаницы. Нет никаких осколков, которые можно приладить и туда и сюда. Не просто чёткий разрыв, а весьма удачное разделение. Иногда самые лучшие аналитики, работающие по самым очевидным границам раздела, вскрывают суть и не находят ничего кроме груды мусора. И вот вам качество, тонкая, почти незаметная линия, линия алогичности в нашей концепции вселенной. Коснитесь её, и вся вселенная раскалывается пополам, причём невероятно чисто. Жаль, что Канта нет в живых. Кант сумел бы это оценить. Настоящий ювелир. Он бы увидел. Оставьте качество без определения. Вот в этом и есть секрет. Федр писал, начиная сознавать, что он причастен к некоему странному интеллектуальному самоубийству: “Ортодоксальность можно кратко и всё же полно определить как неспособность раз-глядеть качество до того, как ему дано интеллектуальное определение, то есть до того, как его всё изрубят на слова… Мы доказали, что качество, хоть и без определения, но существует. Его наличие можно эмпирически наблюдать в классной комнате и можно логически продемонстрировать, показав, что мир, как мы его знаем, не может существовать без него. И остаётся лишь увидеть и проанализировать не качество, а те особые привычки мышления, называемые “ортодоксальностью”, которая иногда мешает нам заметить его.”
Вот так он стремился перейти в контрнаступление. Предметом анализа, пациентом на столе уже больше было не качество, а сам анализ. Качество же было здоровым и в отличной форме. В анализе же, однако, что-то было не так, и оно-то и мешает увидеть очевидное.
Оборачиваюсь и вижу, что Крис значительно отстал.
— Догоняй! — кричу я.
Он не отвечает.
— Ну давай же! — снова кричу я.
Затем я вижу, как он валится набок и садится на траву на склоне горы. Я оставляю рюкзак и спускаюсь к нему. Склон на-столько крут, что мне приходится ставить ноги поперёк. Когда я добираюсь туда, он плачет.
— Я ушиб лодыжку, — говорит он, но не смотрит на меня.
Когда горе-альпинист создаёт о себе образ, нуждающийся в защите, то он лжёт, чтобы защитить его. Но видеть это ужасно, и мне становится стыдно самому, что я допустил это. Теперь моя собственная готовность идти дальше уплывает вместе с его слезами, и его внутреннее чувство поражения передаётся мне. Я сажусь рядом, переживаю вместе с ним, беру его рюкзак и говорю:
“Я помогу тебе нести рюкзак. Я возьму и донесу его сейчас ту-да, где лежит мой, затем ты подождёшь там, чтобы не потерять его. Затем я отнесу свой дальше и вернусь за твоим. Таким об-разом ты хорошенько отдохнёшь. Так будет медленнее, но мы всё-таки дойдём.”
Но я слишком поспешил. В моём голосе всё ещё чувствуется раздражение и обида, он ощущает это, и ему стыдно. Он тоже сердится, но ничего не говорит из-за страха, что снова придется нести мешок. Он просто хмурится и делает безразличный вид, пока я по очереди переношу поклажу вверх. У меня же раздражение проходит в ходе работы, ибо я сознаю, что работы у меня в действительности не прибавилось, чем в противном случае. Про-сто лишь прибавилось работы в плане восхождения на вершину, но ведь это только номинальная цель. В плане настоящей цели, прожить вместе хорошие минуты, одна за другой, получается то же самое, даже ещё и лучше. Мы медленно подымаемся дальше, и обида проходит.
В течение следующего часа мы медленно продвигаемся вверх, я ношу мешки по очереди к тому месту, где заметил исток ручейка. Я посылаю Криса с кастрюлей вниз за водой, и он отправляется. По возвращении он заявляет: “И чего это мы здесь остановились? Пойдём дальше.”
— Может быть, это последний ручей, что попадётся нам за долгое время, Крис, и я устал.
— И с чего бы это ты устал?
Он что, хочет меня вывести из себя? Это ему удаётся.
— Я устал, Крис, потому, что несу рюкзаки. Если ты спешишь, то бери свой мешок и иди вперёд. Я тебя догоню. Он снова глянул на меня с испугом и сел. — Не нравится мне это, — произносит он чуть ли не со слезами. — Ненавижу! Надо же было мне согласиться! И зачем только мы припёрлись сюда? — Он снова крепко плачет.
Я отвечаю: “Из-за тебя мне тоже становится тошно. Лучше по-ешь чего-нибудь.”
— Ничего не хочу. У меня болит живот.
— Ну как знаешь.
Он отходит на какое-то расстояние, срывает былинку и суёт её в рот. Затем закрывает лицо руками. Я готовлю себе перекусить и затем устраиваюсь накоротко передохнуть. Когда я просыпаюсь, он всё ещё плачет. Нам некуда дальше идти. Ничего не остаётся, кроме как смириться со сложившимся положением. Но я в действительности не знаю, как оно складывается.
— Крис, — наконец начинаю я.
Он не отвечает.
— Крис, — повторяю я.
Ответа всё нет. Наконец он воинственно отвечает: Что?
— Я хотел сказать, Крис, что тебе совсем не нужно мне ничего доказывать. Ты это понимаешь?
На лице у него промелькнула вспышка ужаса. Он отчаянно трясет головой.
Я продолжаю: “Ты ведь не понимаешь, что я этим хочу сказать, а?”
Он по-прежнему смотрит в сторону и не отвечает. Ветер сто-нет среди сосен.
Просто не знаю. Ну просто не знаю, что это такое. Это ведь не лагерный эгоизм расстроил его так сильно. Что-то совсем незначительное плохо действует на него, и весь мир рушится. Если он старается сделать что-либо, а у него не получается, то он взрывается или бросается в слёзы. Я снова откидываюсь на траву и продолжаю отдыхать. Может быть, мы оба чувствуем себя побеждёнными из-за того, что не получаем ответов. Вперёд мне не хочется идти, поскольку дальше не видно никаких ответов. Позади также. Просто дрейф вбок. Между ним и мной находится именно это. Это боковой дрейф, выжидание чего-то.
Позже я слышу, как он ковыряется в мешке. Я переворачиваюсь и вижу, что он сердито смотрит на меня. — Где сыр? — спрашивает он. Тон у него всё ещё раздражённый. Но я не собираюсь ему уступать. — Смотри сам. Я тебе не нянька.
Он копает дальше, находит сыр и крекеры. Я даю ему свой охотничий нож, чтобы намазать сыр.
— Я, пожалуй, сделаю вот что, Крис. Положу всё тяжёлое в свой вещмешок, а лёгкое — в твой. Таким образом мне не придется ходить взад и вперёд с обоими мешками. На это он соглашается, и настроение у него улучшается. Видимо, это решило кое-что для него.
Моя поклажа теперь должно быть весит фунтов сорок-сорок пять, и после дальнейшего подъёма устанавливается равновесие в одно дыхание на один шаг.
Затем мы подходим к крутому подъёму и оно меняется на два вдоха на шаг. В одном месте оно доходит до четырёх вдохов на шаг. Большие шаги, почти по вертикали, мы виснем на корнях и ветвях деревьев. Я чувствую себя глупым, ибо надо было спланировать путь в обход этого места. Осиновые жерди теперь при-годились, и Крис проявляет определённый интерес к пользованию своей. Поклажа смещает центр тяжести вверх, и жерди хорошо подстраховывают от опрокидывания. Ставишь одну ногу, упираешься в жердь, затем ПОДТЯГИВАЕШЬСЯ на ней, и делаешь три вдоха, затем ставишь следующую ногу, упираешься в жердь и ПОДТЯГИВАЕШЬСЯ…
Не знаю уж, осталось ли у меня сегодня сил на шатокуа. В такое время пополудни голова у меня что-то не очень варит… пожалуй, я сделаю небольшой обзор, и на сегодня хватит… Давным-давно, когда мы только отправились в это странное путешествие, я говорил о том, как Джон и Сильвия стремились уклониться от некоей таинственной силы смерти, которая, как им казалось, олицетворяется в технике, и что таких людей как они великое множество. Я также упоминал о том, что некоторые люди, связанные с техникой, также как бы избегают её. Основополагающая причина здесь в том, что они смотрят на это в не-коей “накатанной плоскости”, которая имеет отношение к поверхностной сущности вещей, а меня же интересует лежащая в основе форма. Я называл стиль Джона романтическим, а свой — классическим. Его на арго шестидесятых годов можно назвать “хиповым”, мой — “ортодоксальным”. Затем мы отправились в этот ортодоксальный мир, чтобы посмотреть, что же движет им. Данные, классификации, иерархии, причины и следствия, анализ — всё это рассматривалось, и где-то по ходу зашёл разговор о горсти песка, мире, который мы сознаём, взятом из бескрайнего горизонта осознанности вокруг нас. Я говорил, что в процессе рассортировки этой горсти песка она распадается на несколько частей. Классическое, ортодоксальное понимание интересуют кучки песка, характер песчинок и основание для сортировки и взаимосвязей между ними.