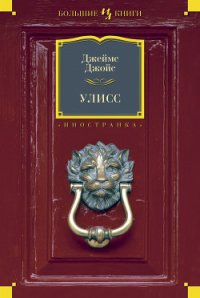Собрание ранней прозы - Джойс Джеймс (полные книги txt) 📗
– Тем не менее брак – это обычай. А следовать обычаю – признак здравомыслия.
– Это признак обычности, то есть ординарности. Допускаю, что из обычных людей многие обладают здравомыслием, и точно знаю, что многие пребывают в заблуждениях. Только способность быть обманутым, будь то другими или самим собой, никак нельзя считать частью здравомыслия. Скорей уж надо спросить, не толкает ли себя человек в нездоровое состояние, когда добровольно обманывает себя или позволяет, чтобы другие его обманывали.
– Как бы там ни было, ты действовал недипломатично.
– С этим никто не спорит, – сказал Стивен, вставая, – но только любая настоящая дипломатия всегда нацеливается на какой-нибудь особо лакомый плод. И как ты думаешь, какой плод принесла бы дипломатия Крэнли, пускай она и замечательна сама по себе? Какой плод она могла бы принести мне, если бы я дипломатично предложил брак – конечно, не считая супруги, что «увидит мое чистое богобоязненное житие»? [58] Скажи-ка!
– Сок плода, – отвечал Линч, тоже вставая; вид его показывал крайнюю усталость и жажду.
– Самое женщину, ты хочешь сказать?
– Вот именно.
В молчании пройдя по дорожке метров двадцать, Стивен промолвил:
– Я люблю, чтобы женщина отдавала себя. Люблю принимать… У этой публики считается злом продавать святыню за деньги. Но то, что они называют храмом Духа Святого, – это уж точно нельзя выставлять на продажу! Это разве не симония?
– Ты ведь хочешь продавать свои стихи, правда? – спросил Линч резко. – И притом публике, которую ты, по собственным словам, презираешь.
– Я не собираюсь запродавать мой поэтический дар. Я жду от публики вознаграждения за мои стихи, потому что, как я считаю, мои стихи принадлежат к духовным активам государства. В этом обмене ничего симонического. Я не продаю того, что Глинн именует божественный afflatus [59]; я не клянусь любить и почитать публику, а также повиноваться ей по гроб жизни. Не так ли? Тело женщины – телесный актив государства;» если она пускает его в оборот, она может продавать его как шлюха, или как замужняя женщина, или незамужняя работница, или любовница, наконец. Но женщина еще, между прочим, человеческое существо, а любовь и свобода человеческого существа – это уже не актив государства. Может ли государство продавать и покупать электричество? Нет, не может. Симония отвратительна, ибо она возмущает наши понятия о том, что для человека возможно и что невозможно. Человеческое существо может употребить свою свободу на то, чтобы производить или принимать, любовь же – чтобы плодиться или давать удовлетворение. Любовь дает, свобода берет.» Женщина в черной соломенной шляпке отдала нечто, прежде чем продала тело государству; Эмма продастся государству, но не даст ничего.
– Знаешь, если б ты даже сделал благопристойное предложение ее купить – для государственных целей, – сказал Линч, задумчиво поддавая носком гравий дорожки, – она бы не согласилась с ценой.
– Думаешь, нет? Если бы даже я…
– Никаких шансов, – решительно заверил другой. – Дуреха чертова, и все тут!
Стивен невольно покраснел.
– У тебя такой милый стиль выражаться, – сказал он.
При следующей встрече на улице Эмма не поздоровалась со Стивеном. Он не сказал об этом случае никому, кроме Линча. От Крэнли он не ожидал особого сочувствия, а от того, чтобы рассказать Морису, его удерживало еще сохранявшееся стремление старшего брата выглядеть преуспевающим. Беседа с Линчем с удручающей выразительностью раскрыла ему банальную сторону приключения. Не раз, и с полной серьезностью, он себе задавал вопрос: ждал ли он, что она может ответить «Да» на его предложение. Он говорил себе, что, видимо, его ум был в неуравновешенном состоянии в то утро. И при всем том, пересматривая свои доводы в защиту своего поведения, он их находил справедливыми. Экономическая сторона дела рисовалась ему не очень отчетливо – лишь до такой степени отчетливо, чтобы породить у него сожаление о том, что решение моральных проблем оказывается так безнадежно переплетено с чисто материальными соображениями. Он не был доктринером настолько, чтобы желать всеобщей революции как средства практической проверки своей теории, но и не мог поверить, что эта теория полностью неприложима на практике. Католические представления, требующие от человека, начиная с отрочества, неуклонного воздержания, а затем дозволяющие ему реализовать свою мужскую природу, предварительно удовлетворив Церковь по части своего правоверия, своих финансов, общих намерений и планов, а также поклявшись при свидетелях вечно любить жену, будь там любовь в наличии или нет, и производить потомство для царствия небесного по чину, одобренному Церковью, – эти представления абсолютно не удовлетворяли его.
Меж тем как эти размышления шли своим ходом, Церковь направила к его слуху посольство своих искусных защитников. То были послы всех рангов и всех типов культуры. Они поочередно адресовались ко всем сторонам его натуры. Он был молодым человеком с сомнительными видами на будущее и с необычным характером: таков был первый бросающийся в глаза факт. Послы воспринимали его без неподобающего лицемерия или поспешности. Они объявили, что в их власти сделать для него гладкими многие из путей, которые иначе будут весьма тернисты, и также в их власти обеспечить его необычному характеру простор и легкость для развития и усовершенствования, уменьшив тяготы материального рода. Он сожалел о том, что проблемы морали переплетались с чисто материальными соображениями – и здесь давались гарантии, что если он прислушается к речам послов, то, по крайней мере, в его случае моральная проблема будет направлена в такое русло, где сможет решаться вне зависимости от низких мелочей и забот. Ему свойственно было то, что он называл «современным» отвращением давать обеты, – обетов не требовали. Если по истечении пяти лет он будет по-прежнему коснеть в своей нераскаянной черствости, он сможет вновь обрести индивидуальную свободу, без страха, что будет назван клятвопреступником. Действовало старое мудрое правило должного учета обстоятельств. Он сам ведь был первым скептиком в отношении к неумеренному энтузиазму патриотов. Как художник, он относился с полным презрением к трудам, рожденным любым иным состоянием ума, кроме самого уравновешенного. Так может ли быть, чтобы к своей жизни он подходил с меньшею строгостью, чем та, с какою он хотел подходить к своему искусству? Разве могло у него быть такое недомыслие, такое циничное подчинение действительного абстрактному, коль скоро он честно верил, что ценность учреждения оценивается по его близости к реальным человеческим нуждам и проявлениям и что к духу современности следует прилагать эпитет «вивисекторский», в отличие от духа древности как «опутанного категориями». Он желал жизни художника для себя. Отлично! И при этом боялся, что Церковь помешает его желанию. Но, создавая свое кредо художника, разве не находил он его, пункт за пунктом, уже заранее созданным для него в наследии величайшего и церковнейшего из учителей Церкви, и разве не одно лишь тщеславие толкало его к терновому венцу еретика, тогда как вся теория, в согласии с которой строилась его жизнь художника, удобнейшим для него образом возникала из массивов католической теологии? Он не мог с чистым сердцем принять того, что предлагала протестантская вера: он знал, что ее хваленая свобода – зачастую только свобода неряшливости в мысли и бесформенности в обряде. Никто, вплоть до яростнейших врагов Церкви, не мог ей вменить неряшливость в мысли: тонкость ее различений стала притчей во языцех у демагогов. Пуританин, кальвинист, лютеранин враждебны искусству и преизобилию красоты, но католик – друг тем, кто предан толкованию и раскрытию прекрасного. Мог ли он утверждать, что его собственный аристократический интеллект, его страсть к соблюдению совершеннейшего порядка во всех неистовствах художественного творчества не являются чисто католическими качествами? В этот вопрос послы особенно не углублялись.