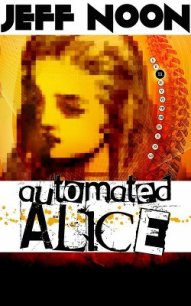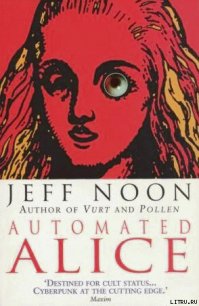Алиса в Стране Советов - Алексеев Юрий Александрович (бесплатные полные книги .TXT) 📗
Последние двое суток Кимоно Петрович Безухов пребывал в опупении, именуемом среди учёных прострацией. Когда звонили в дверь, он бежал к телефону, а среди ночи вскакивал, бормотал «Это сон, это Фрейд!», лихорадочно раскрывал бурую папку и, всякий раз находя там вместо «Попупса» чёрте что, насвежо изумлялся и заламывал руки:
— Наследственное проклятие! Я отроду невезучий…
Кимоно Петрович ничуть не кокетничал. Оно и впрямь — его темным, ослеплённым пламенем Октября родителям лучше было бы дать сыну-первенцу имя Пьер, или Робеспьер. Но время было горячее, с претензиями на мировой пожар, и маленькому Безухову в честь Коммунистического Интернационала Молодежи Новгорода дали пожизненно Кимоно. Восторженные новгородские родители мало что пронадеялись на отмену паспортов и границ, но и не учли силу советского патриотизма. И когда во время конфликта на КВЖД сверстники устроили Кимоно тёмную, искривили ему правый глаз, родители не образумились, посчитали взбучку случайной.
Левый глаз несчастному Кимоно перекосили в разгар наступления самураев на озеро Хасан, и достигнутая таким образом симметрия сделала его настолько не нашим, настолько подозрительным, что имя ему уже хочешь-не хочешь сократили до расхожего Ким. И приключилась другая крайность. Дружбонародная. Университетская. Конкурс был ужасающим. Однако на биофаке сохранилась азиатская квота. Туда, с учётом внешности-имени, Киму и присоветовали, чтобы экзамены дуриком проскочить. В неразберихе, собственно, он и просочился. А через пять лет заступил на службу в Институт контрагенетики, ставший вскорости Центром генетики и цитологии, что никого не смутило, прошло незамеченным из принципа — не важна работа, важен результат, то есть Ленинская премия со всеми вытекающими из неё приятностями вплоть до права закладывать в спорах два пальца в жилетку и картавить огульно: — Вы, батенька, дегенегат, генегат, науку не делают в белых пегчатках!..
К тому времени подоспели дружеские контакты с вражеским окружением. И доктор Безухов тихонечко, с оглядкой на Курильские острова, вернулся к полному имени. Главной причиной тому была жена. Она добавила к Кимоно приставку «сан», да и себя переделала для гостей из Джуванешевой в Джу Ван, увешала квартиру циновками и, вообще, ояпонила быт, начиная рисовыми палочками и кончая магнитофоном «Сони», оглушительного своей ценой.
Неудачные крестины снова дорого обходились Кимоно Петровичу. И поскольку конечной мечтой Джу Ван был японский автомобильчик, вопрос о Ленинской премии стоял в семье необычайно остро. А само название премии требовало от Петровича произвести в науке переворот.
Всесезонная муха дрозофила, надо сказать, в Центре генетики была окончательно заезжена и обсосана. Её по лапкам в диссертации растаскали. И Кимоно Петрович измучился, исхудал в поисках отправной точки. Но вот однажды перед Новым годом Джу Ван явилась из магазина с праздничной, по профессорскому талону подачкой и швырнула на кухонный стол птицу, похожую на конскую ногу.
— Полюбуйся, — сказала она отдышливо. — В ней четырнадцать килограмм. Её насильно скрестили со страусом и до смерти рыбной мукой закормили… Да-да, понюхай!
На скрюченной как после пытки морозом птице бугром вздымался живот с клеймом комбината «Красная путина». Тиной от неё действительно припахивало, как от утопленницы.
— Между прочим, в Америке, — продолжала Джу Ван, — к Рождеству кормят индеек орехами и нарочно рост замедляют, чтобы целой, а не лохмотьями к столу подавать.
— Что? Как ты сказала!? — неуместно оживился Безухов.
— Я говорю, лауреатов таким дерьмом не кормят, — мстительно подковырнула Джу Ван, чего натуральная японка никогда бы себе не позволила. — Ленинцам парную курицу дали, сталинистам — кило сельдей, банку хрена и…
— Джу! — остановил жену мановением руки Кимоно Петрович, и в голосе его было нечто торжественное. — Умница моя ненаглядная, Джу! Мы не будем больше кормиться падалью. Ты открыла мне путь к таким горизонтам, — ткнул он зачем-то в птицу-страуса и руками всплеснул, — к таким вершинам, к таким высотам…
И понёс нечто из «Происхождения семьи, частной собственности и государства», увязывая это каким-то образом с решениями XXI съезда партии и приговаривая утвердительно, возбужденно:
— Тока-така! Тока-така и не инака!
Вольный переклад с русского на «японский» всегда означал у него высшую степень удовольствия, причиной которого был он сам.
В такие минуты его тянуло в народ, о коем он имел смутное представление и потому спешил освежить память. В предновогоднюю ночь восторженный Кимоно Петрович бродил по московским улицам, сощуренно и снисходительно, чему глазной дефект помогал, глядел на безобразную толчею в Елисеевском, где под золочёными сводами магазина-дворца люди приступом брали свиную печень. Там он нарочно собственными боками испытывал себя в очереди за дешёвой водкой. Потом, опять же с умыслом он дал измять себя и выплюнуть спиною вперёд из клокочущего автобуса № 24. На минуту Петрович даже бесстыдно придержал себя у женского туалета на Неглинке. Внутри там шла большая предпраздничная торговля цыганской косметикой, и дамы, рвавшиеся туда по нужде, оттиснуто переступали ножками.
И все эти картины народного бедствия особым маслом ложились на сердце Кимоно Петровича.
— Мда-с, — приговаривал он от раза к разу увереннее. — Горький неправ. Человек — это звучит неубедительно. Но с этим будет покончено, мда-с!
Ровно за четверть часа до Нового года Кимоно Петрович уединился в кабинете, созрело взял лист краденой на работе бумаги и вывел малыми буквами: «На соискание Государственной премии». Остановился. Покрутил пальцами, как бы открывая одновременно кран горячей воды и холодной. Скомкал начатое и написал на свежем листе убористо:
«К решению продовольственной и других проблем». Середину листа он украсил заглавием будущего труда:
ГОМО ПОПУПС
— Кимоно-сан, ты скоро? — напевно, в тоне заждавшейся гейши позвала из гостиной Джу Ван и обезьянку — знак набегавшего года — в двери просунула.
— Иду! Один момент, дорогая! — нежнейше откликнулся Кимоно Петрович, секунду поколебался, приставил к ПОПУПСУ хвостик-тире и дописал:
или ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОИЗОШЁЛ ОТ ЧЕЛОВЕКА
Наступивший год Обезьяны Кимоно Петрович целиком отдал ГОМО ПОПУПСУ, начав труд, как и всегда, от печки, равноудобной что для сушки валенок в лихолетье, что для кремации оппонентов в мирный день:
«Ещё в первом предисловии к «Капиталу» величайший анатомист человечества Карл Маркс предопределил, что развитое тело легче изучать, чем клеточку тела. Необходимость такого изучения, — продолжал Кимоно Петрович, — назрела уже потому, что своего наивысшего развития (см. результаты первенства мира по хоккею) тело достигло в условиях победоносного социализма. Задача нынешнего исследователя стала реальной. И, гениально предвидя это, Маркс уже на подступах к телу предупреждает: нельзя (то есть никчёмно. — К.Б.)пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна заменить сила абстракции».
Последнее особо устраивало Кимоно Петровича. В микроскоп он лет десять как не заглядывал, а реактивов вообще сторонился, опасаясь халат прожечь. И вступление он закончил раскованно:
«Марксистский подход к телу, будь оно мужским или женским, и положен в основу моего труда».
Далее следовало подпустить немного правды. И, оснастивши раздел припиской «Секретно! Для закрытых партийных собраний!», Кимоно Петрович озаглавил его
ШАГ ВПЕРЁД, ШАГ НАЗАД
Учёными разных стран, — извещал он, — доказано, что тело поддерживает себя питанием. И в наш век всё человечество, и прогрессивное в особенности, тщится в поисках пищевых ресурсов, известных в нашей стране под термином «изобилие». Однако 47-летний опыт нашего самого прогрессивного государства убеждает в неразрешимости этой проблемы традиционными путями. И тормозящей причиной тому — сам народ. Наевшись вдосталь пшена и воблы на первом этапе социалистической сытости, вкусив от сердца ненормированного хлеба — второй этап, он в силу гордости, особо присущей советскому человеку, приватно настраивает себя на масло, мясо, на прихотливо ставшую деликатесом воблу, и не желает ничуть считаться ни с обмелением Каспия, ни с засухами, ни с перестройками. Отсюда диалектическая пропасть. Сколь ни велики и объёмны неутомимые заботы Партии о едоках нашей Родины и примкнувших к ней народах, их желудки оказываются ещё более объёмными, неутомимыми в деле поглощения пищи и её эрзацев.