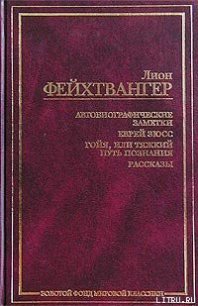Исповедь еврея - Мелихов Александр Мотельевич (книги онлайн полные .TXT) 📗
– Пока хоть один русский сидит дома – евреям там нечего делать!
– А что – там одни евреи? – старый рубака насквозь облучил меня взглядом мореплавателя и стрелка.
– И одного много! Опять еврейский авангард русского народа…
И не путай: коммунистов я ненавидел исключительно за поругание истины, за то, что они заставляли меня прятать глаза на ихних политзанятиях, а в остальном мои интересы всегда были неразрывно связаны с Коммунистической партией. Мы, евреи – умники то есть, все думаем, что если над каждым из нас поставлен дурак-коммунист, так значит коммунисты мешают нам работать. Да если б не коммунисты, Народ никогда нам бы не позволил сидеть по институтам да кабэ, пускай и на вторых ролях, он бы всех гнал добывать ему мясо с картошкой. А коммунисты у него отбирают, а нам дают. Хотя, конечно, после себя. Нет кабэ без кагэбэ! Мы должны быть благодарны партии за то, что она силой штыков охраняет нас от народного гнева!
Старый вояка потопал сапожищами, проверяя, ладно ли улеглась портяночная утроба, и после часовой паузы (ихнему брату спешить некуда – солдат спит, а служба идет) брезгливо пошевелил прокуренными усами:
– Стыдно слушать это юродство.
Единство непроницаемо для логики. А жена лихорадочно принялась доказывать Косте и мне, а особенно себе, что руководит мною не что иное, как оскорбленный патриотизм. Я понимаю, ей слишком страшно жить с непатриотичным мужем, но вы знаете что? Я почувствовал сильнейшее облегчение.
Я думал, супруга повиснет на Косте кулем, но – в бой провожая их, русская женщина по-русски три раза его обняла. Катюша отправлялась к подруге, от которой все видно, что делается под хвостом у Николая Палкина, и все слышно, что передают по «Свободе». Если что, – авось, и Костя к ним туда заберется. Балбеска была уверена, что жизнь – это невзаправду.
Признаюсь: та ночь была самой страшной в моей жизни. Сначала я ощущал только зависть ко всеобщему братанию, которое, казалось, кипело во мраке за окном: каждый раскрывал самое заветное: интеллигент – душу, таксист – дверцу, завмаг – подсобку, а проститутка – ляжки, – нынче все бесплатное, нынче все мы русские, окромя жидов, что затаились по щелям! (Я и на площадь иду как еврей, и дома остаюсь как еврей.) Конечно, кто-то каждый раз мягко клал мне холодный компресс на поддых, когда я вспоминал про Костю, но вообще-то я был уверен, что все будет решаться в Москве. Решаться в том смысле, решатся они или не решатся, а если решатся, то уж точно победят. Я не позволял накапливаться пафосу, напевая: «Я на подвиг тебя провожала». В конце концов, в подспудной тяге к вулканической деятельности жена сменила на огне бурлящий гуляш на бак с бельем. Будем лить на головы, когда путчисты пойдут на штурм.
Чтобы поменьше походить на еврея, я не держал дома приемник – теперь приходилось довольствоваться Катюшиными телефонными реляциями. Не помню уж, в котором часу наша золотистая дуреха наконец догадалась разрыдаться – дошло, на каком свете живет: в Москве началась атака Белого дома, уже прошли… В общем, что надо, то и прошли. Значит, решились. И меня охватило такое отчаяние, какого я – большой знаток и гурман по этой части – еще не отведывал.
Душевная боль прорвалась наконец из области желудка и пронзила меня от мизинцев до волос. Словами – до крайности стерто (четырежды закрашенное краткое слово на школьных перилах имеет больше сходства с обозначаемым предметом) – это чувство можно выразить так: «Нет. В мире. Правды». Да какой дурак этого не знает? Но какой же дурак не знает, что когда-нибудь умрет, однако люди каждый раз делают из этого событие. И для меня тоже вполне очевидно, что в Гондурасе, в Японии, в Германии может победить кто угодно – только не там, где я живу. Это, наверно, и есть суть патриотизма: моей стране закон не писан.
«А Костик, Костик где?.. Греется?.. Скажи ему, чтобы ни в коем случае… Теперь это уже совершенно… Костик, вспомни, ты больной, у тебя повышенная кислотность… Пойми, надо прежде всего выжить, потом будем думать, как с этим бороться… Мы нужны Родине в тылу!» – последние слова выкрикнул в трубку уже я.
– В ту войну евреи ехали в Ташкент – а теперь куда? – горестно спросил я жену, и она так прижалась ко мне, словно хотела в меня укрыться. Или укрыть меня в себе. «Только бы вместе, только бы вместе…» – «Да провались оно все!.. Частная-то жизнь у нас останется! Особенно половая. Этого-то нам не запретят?!» – «Ты что – с ума…» – но я уже раздвигал величавые портьеры ее халата – брызнуло солнце. «У тебя всегда одно…» – но я уже забрался в прогретый солнцем виноградник, в любимую беседку, увитую плющом и хмелем (только в пальцы постреливал болью неразрядившийся аккумулятор). Ништо – однова живем! «Выключи хотя бы свет – устроил разгул порнографии!..»
А мы пу-русски, пу-простому, пу-патриархальному, бормотал я, стараясь освоить вулугодский говорок, который теперь сделается литературной нормой (не забыть почаще вворачивать сакраментальное сибирское «однако»!). Я нащепал лучины из книжных полок (заметались страшные тени) и пу-хузяйски, пу-хузяйски наладил свою бабу поддать жару. Шлепая босыми ногами, белой лебедью проплыла она на кухню (от моей напутственной пятерни разбежались волны сметаны) и приволокла (коня на скаку остановит) раскипятившийся бак – Пруст и Кафка на стеллаже скрылись в облаках пара.
Я степенно разоблачился до нательного креста (тяжкое чрево скрывало срам) и, кряхтя, забрался на полок, а русская Венера принялась с застенчивым повизгиванием охаживать меня березовым веником из канализационного люка. Ухх, ухх, издавал я оргиастические стоны, шибче! шибче!! о! о! до печенок пробирает, холера!!! «А ну, поддай на каменку!» – и типятком со всего маху на раскаленные кирпичи Толстого и Герцена, – ухххххо-рошшо!.. А таперича квасом – охх, духовит! А таперя медом, брагой, уксусом, желчью, кровью!.. Запекается, однако, ястри тя… Ништо! волоки скребок! От моей напутственной пятерни разбегаются волны малинового сиропа. А таперя будем, однако, блуда гонять! «Хи-хи, вы уж скажете, Лев Яклич…» Веником-от, веником от кого, однако, прикрылась? А ну-к, раздуй лучину полутче – эва, ножищи, однако, колоды колодами, а титечки быдто репки чишшенные… Ты, однако, не стыдись, касатка, в еттом греха нетути – токо что икону, однако, не забыть завесить…
Но тут пропел петух. Неужели мы так всю ночь и простояли, каменно стиснув друг друга?
Назавтра я снова всем сердцем любил тех простых славных людей, которые на полном серьезе рассказывали, что мятежные министры улетели во Фрунзе, чтобы оттуда пробраться к Саддаму Хусейну, но крылатая ракета для них уже хрипит и рвется с поводка. Даже глупость почти умиляла меня, когда дураки вместе со мной радовались нашей победе.
Что говорить – славная минута. Если бы только Единство В Победе не требовалось покупать кровью и ненавистью…
Да, еще: в день путча я случайно услышал по радио гармошку – «На сопках Манчжурии» – и вместо ностальгического умиления испытал самый настоящий ужас: мне показалось, что Эдем вот-вот снова накроет меня своей волной.
Впрочем, вооружась микроскопом, даже еврей способен разглядеть каждодневные проявленьица Единства без заметной примеси злобы, когда незнакомые люди, широко распахнув дверь, раскрывают тебе широкие объятия. Отчего бы всем так не жить, вновь (как моча) ударяет в голову мечта идиота: если людей способно так преобразить некрасивое слово «родня», в кого же они превратятся, если вдруг всерьез поверят еврейской байке, что все мы – сводные браться по общему Отцу небесному?..
И когда успевший оплешиветь до знакомства с тобой сколькитоюродный брат, которому в естественных условиях было бы глубоко противно все, чем ты живешь, от всей души зазывает тебя на рыбалку, ты немедленно забываешь свои страшные клятвы больше ничего не делать «ради людей» (им же будет лучше – будешь меньше их ненавидеть) и не сходя с места совершаешь встречный подвиг – соглашаешься на сутки непереносимой скуки в обществе неразговорчивых рыб и, увы, гораздо более говорливого сородича. Но – самое удивительное – ты тоже становишься улыбчив, услужлив и говорлив: уровень еврейскости (грубее – жидкости) в твоей крови падает почти до нуля.