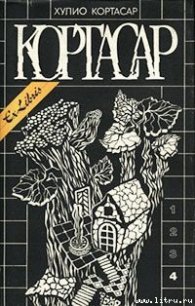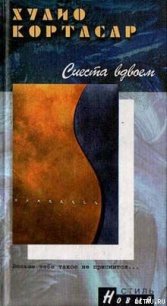Оп Олооп - Филлой Хуан (бесплатные онлайн книги читаем полные .TXT, .FB2) 📗
— Да, ребята, я дам вам полезный совет. Юридического толка. Муссолини запретил чаевые в тысяча девятьсот двадцатом году. Первого октября тысяча девятьсот тридцатого года то же самое сделал испанский закон. Многие люди, начиная с Рудольфа фон Иеринга, посвятившего чаевым целое психологическое и критическое исследование от тысяча восемьсот восемьдесят второго года, и заканчивая Пьером Мазуаром с его работой «Usage et evolution du pourboire», [8] написанной в Париже в тысяча девятьсот тридцать первом году, занимались этим вопросом. Я же вынужден следить за ним, как и за многими другими, по роду своей деятельности. Ведь я — статистик, составитель юридической картотеки для академий, семинарий и экспертов!.. Так вот, не позволяйте своему начальнику обманывать вас! Я знаю, что вы зарабатываете всего пятьдесят песо в месяц. Соответственно, ваше жалованье состоит из чаевых. И если завтра с вами что-то случится на работе, вам не следует довольствоваться жалкой компенсацией, рассчитанной на основе вашего официального жалованья, требуйте учитывать клиентское вознаграждение, которым спекулирует ваш наниматель. Это точка зрения, которой придерживаются Саше и вся французская юриспруденция. Не спите! Объединяйтесь! Прожить на пятьдесят песо невозможно. Каждый раз, когда я даю вам 1,40 чаевых, я компенсирую своей щедростью несправедливость вашего начальства. И потому могу призвать вас: объединяйтесь! Создайте бюро учета чаевых в каждом заведении, в каждом городе, в каждой стране. Не спите! Учредите Интернационал чаевых!
Под конец голос Опа Олоопа достиг пророческого пафоса. Затем он сделал прощальный жест. И вышел на улицу.
Оставшиеся озадаченно смотрели ему вслед. Казалось, даже его плоскостопая подпрыгивающая походка стала легче. Не скрылись от них и несвойственные ему говорливость, красноречие и манеры: слова срывались с его губ с необычайным жаром, били из него артезианским ключом. Его цель была благородной: отстоять свою честь. Но он совершил ошибку, не приняв в расчет ограниченность своих слушателей. А ведь стоит забыть про это обстоятельство, и знание превращается в оскорбление. Оп Олооп слишком распустил хвост. Культура неприятна тем, кто влачит свое существование на задворках духа. Даже хорошее расположение вызывает подозрение, когда выходит за установленные рамки. Печальная и глупая ошибка обесценила все его усилия.
Со всех сторон посыпались возгласы:
— Да что за ерунда с ним творится? В жизни не видел его таким.
— «Мой рот вмещает молчание пигмея». Вы это слышали? А что он городил про чаевые?!
— Может, у него мозги расплавились в последней парилке?
— Представляете, он наорал на меня за то, что я смотрел на его ноги. И все, без какой-то другой причины… А я обрабатываю их уже четыре года…
— А мне по барабану. У него паразиты в крови. Он — сифилитик. Он же сам сказал: «У меня голова сейчас как карманное издание ада»…
Жокеи, оскорбленные тем, как он смотрел на них в парной, тоже не преминули высказать свою точку зрения.
Толстяк внимательно выслушал всех, отгородившись полуметровым животом, и подытожил, несколько раз медленно повторив:
— Никакого сомнения. Он или сумасшедший, или на грани помешательства…
До чего же сложно понять и объяснить причины душевного расстройства! Психиатрия, наука о географии помешательства, пытается определить границы homo sapiens при помощи формул. Используя те же ориентиры, что заставляют человека замыкаться в себе и устремляться в первобытное животное состояние, психиатр соотносит их с координатами исходно здорового состояния и определяет корень проблем, привязываясь к темпераменту или наследственности пациента. Но так происходит не всегда. Полушария мозга преставляют собой запутанный лабиринт, а если они к тому же расположены не в черепе, а в мясистых ягодицах — есть люди, у которых мозг точно граничит с линией, разделяющей зад пополам, — то пиши пропало. Их разум теряет всякую остроту и дает такую психопатологическую картину, что самый умудренный опытом врач опустит руки.
Оп Олооп быстро добрался до Авенида-де-Майо и резко свернул на запад.
Он шел раскованной, свободной походкой, радостно и широко махая рукой каждому, кто задерживал на нем свой взгляд.
Слабоумие придает энергии. Встряхивает флегматика, смазывает внутренние пружины привыкшего к апатии меланхолика. Но в его случае эта удивительная бодрость не поддавалась никакому объяснению. Любой человек, склонный к порядку, последовательно избавляется от всего лишнего. Становится все совершеннее и компактнее, менее ярким снаружи и более концентрированным внутри. Каким образом можно за столь короткий промежуток времени позабыть о стремлении к идеалу, как объяснить резкие и не столь заметные перепады настроения у того, кто всегда отличался уравновешенностью и спокойствием равноденствия?
Водитель автобуса расценил приветственный взмах Опа Олоопа как просьбу остановиться и прижался к обочине. Оп Олооп замер на мгновение в нерешительности, а затем подскочил с резвостью разносчика газет. Его тело раскачивалось от стремительного рывка. Он вскарабкался в салон и направился к незанятым сиденьям. Рядом сидели несколько баскетболистов. Он не обратил на них никакого внимания. Они виделись ему совсем по-другому. Проезжая напротив роденовского «Мыслителя», он вытянул руку и, подобно Цицерону, произнес:
— Господа, это Le Penseur Огюста Родена. Часть композиции «Врата ада». Как неудачно выбрано место. Он похож на постового. Я протестую. Категорически протестую!
Баскетболисты встали со своих мест. Позвали кондуктора. Когда тот приблизился к Опу Олоопу, чтобы ссадить его с автобуса, бедняга безутешно повторял:
— Как ничтожен Le Penseur из окна автобуса!
У здания конгресса он застыл посреди улицы, сбитый с толку плотным потоком машин, а затем заметался под гудки автомобилей, визг тормозов и скрип разваливающихся автобусов. Что за грустное зрелище! Он, всегда такой обязательный, такой благоразумный, казался сломанной механической куклой. В какой-то момент обреченность отпечаталась на его лице. И, вконец ошалев от происходящего, словно пытаясь любой ценой найти хоть какое-то решение, он вскочил в едущее на полном ходу такси.
— Не останавливайтесь, езжайте вокруг площади.
Он не сел. Он растекся по сиденью. И, покорившись, закрыл глаза.
Человек сделан из негодного материала. Оп Олооп понимал это. Об этом писал Менкен: «Человек являет собой вершину ошибок и просчетов Творца, это самый ущербный из всех механизмов, по сравнению с которым лосось и стафилококк — здоровые и эффективные машины». Но он-то считал себя героическим архитектором своей судьбы. Он креп и зрел в лоне порядка, комфортной и удобной системы, с упорством мазохиста совершенствуя себя. И ради чего? Ради этого? Чтобы позорно развалиться на ровном месте? Чтобы горько ковылять по развалинам самого себя?
Раздражающее беспокойство разъедало его изнутри. Одним из основных жизненных принципов Опа Олоопа, которые он последовательно применял на практике, была вера в то, что неудачи закаляют интеллект. И вот безусловный провал продемонстрировал цену его выпестованным предрассудкам и слабость его суждений; показал, что вместо надежного фундамента он вложил все свои силы в арабески, что он предавался оргии самолюбования вместо достижения реального этологического превосходства. И по той же причине, по которой он ненавидел театр, его захлестнуло отвращение к своей малоформатной душонке, из тех что становятся посмешищем, когда земные неурядицы показывают их такими, какие они есть, на фоне того, чем они должны быть.
Он сидел, разбитый и раздавленный, но постепенно в его мысли стал вплетаться звук работающего двигателя. Гул мешал сосредоточиться. Мало-помалу звук приобретал все большую четкость, пока не превратился в откровенно угрожающий назойливый стук. Оп Олооп попытался избавиться от него, зажав ладонями уши. Но стук не прекращался, он шел изнутри его тела. Ощущение не отпускало. Хуже того, казалось, стук издевается над ним: будто кто-то пускал газы, и их шум складывался в обидные и злые слова.