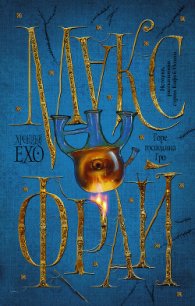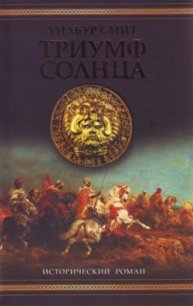Лагум - Велмар-Янкович Светлана (книги бесплатно без .txt, .fb2) 📗
Вторая ипостась начала, вдруг сосредоточившись, медленно спускаться к некоей темной сердцевине, но во время спуска оставалась плотной и наблюдала, с расстояния и равнодушно, за поведением первой ипостаси. Даже сейчас я не знаю, которая из них взяла на себя обязанность запоминать, но то, что я обнаруживаю запомненным, в опустевшем пространстве после ухода Душана, — последовательность искаженных подробностей, выдернутых из исчезнувшего ряда. Эти подробности я вижу совершенно отчетливо. Например, левую ногу нашего Милое, привратника, изношенную штанину и солдатский башмак, который раскачивается и отступает, с отвращением, стоит мне пройти рядом с ним, через прихожую. В существовании, которое тогда принимало свои формы, не было ничего необычного в том, что владелец этой левой ноги и солдатского опорка, наш привратник, вместо того, чтобы сидеть в своей квартире, сидит в чужой, точнее, в нашей квартире, непрерывно, днем и ночью; и в том, что из прихожей, неудобно разместившись в настоящем чиппендейловском кресле (или это был хэпплуайт, я всегда путала эти два, для меня почти неразличимых стиля, может быть, потому что считала, что кресла действительно неудобные, и это просто снобизм — иметь их только потому, что это чиппендейл или хэпплуайт, притом, что мы никакие не англичане, а имена этих мастеров для нас ничего не значат, так я невольно сердила Душана, и тем, что путаю стили, и тем, что молча считаю его снобом), теперь сторожит меня, вместо того, чтобы сторожить дом. Привратник, развратник, соратник, курятник — инфантильное желание поиграть в рифмы — при этом мой внутренний слух ставил ударение на последний слог, на французский манер, — нападало на меня, как только я видела солдатский башмак. А башмак, и впрямь, стоило мне ступить в прихожую, был направлен на меня, а потом, по мере того, как я приближалась, отступал и дергался, в злобе. Я понимала, что ему, башмаку, неприятно находиться в этой прихожей, куда начищенный и сияющий, бывший сапог бывшего нашего привратника, теперешнего сторожа меня, был вполне вхож и ориентировался здесь намного лучше, но сапога больше не было, он куда-то подевался вместе с прежним внешним обликом нашего Милое-привратника. Башмак, бесспорно, лучше вписывался в его теперешний привратницкий, полувоенный и полицейский, внешний облик, но, бесспорно, тяжело переносил собственную растоптанность, неприятно очевидную на килиме из Басры, сотканном из плотной, блестящей шерсти. Этот килим освещал полутемную прихожую роскошным блеском чьего-то, вплетенного в краски ткани, прорыва к чему-то сквозь страдание.
Я вижу женскую руку, молодую и крупную, по сути, предплечье, и ладонь, поднятую к небольшой картине на стене кабинета. Это розовое предплечье и эта крупная ладонь словно принадлежат розовым и крупным телам с картины, автор которой, Сава Шуманович, называл купальщицами и располагал их, возбужденных чувственностью и неприкосновенными границами собственной кожи, на антично-зеленой, дикой траве, у воды, что из глубины веков прикасается к нашему времени. Эта поднятая рука, которую я вижу, все-таки не скользнула с картины, а возникла в той ноябрьской фантасмагорической реальности, она следует к картине, но принадлежит кому-то, кого мы тоже называли нашим.
(Тогда, в том ноябре, четыре десятилетия назад, в ноябре 1944-го, у меня не было сил думать, но помню, как меня пронзило какое-то незамутненное изумление, когда я смотрела на ту руку. Позже, возвращаясь, это впечатление уже не было таким чистым, и преображалось, на первый взгляд, в несущественные, но, на самом деле, враждебные мысли. Помню одну такую мысль, которую я сегодня, возможно, могла бы выразить в форме вопроса: что такое случилось с основным значением, содержащимся в притяжательных местоимениях мой, моя, мое и наш, наша, наше? Старое значение, то, которое я знала, и которое я, хотя и коротко, как помощник учителя сербского языка в белградской Третьей мужской гимназии, объясняла своим ученикам, не просто совсем изменилось, но и, потеряв форму до неприемлемости, исчезало. Ничто не было моим, заведомо, еще в меньшей степени нашим, ни предметы, ни люди. Значение, и это очевидно, должно было заново определяться, согласно новой, непостижимой реальности.)
Рука, которую я и сейчас вижу только до локтя, розовая, тянущаяся к картине, — локальная вспышка в нетвердых воспоминаниях, — принадлежит бывшей нашей Зоре, сельской девушке откуда-то из-под Шида [12], которая, обладая крупным красивым телом, могла бы даже стать моделью Шумановича, в те времена, когда он из Парижа удалился в свой Шид, в предвоенное десятилетие. Но, если бы Шуманович и принял это тело, то не принял бы такое лицо: он был склонен к лицам, сильно отличавшимся от лица Зоры, пышущей здоровьем патриархальной сербской девушки, лица, обрамленного толстыми черными косами, лица целомудренного. Он выбирал лица, обманчиво целомудренные, но в которых на самом деле был вызов, лица женщин того поколения, к которому я сама принадлежала, дерзкие в своем стремлении к так называемой эмансипации, но еще невинные перед зовом ожидающий их бездны. Эти лица запечатлены не только на полотнах Шумановича, но остались и на фотографиях, и в кинолентах двадцатых годов: женщины с такими лицами танцуют аргентинское танго, в летящих юбках до колен и элегантных туфельках с перепонкой на подъеме, они покачиваются в ритмах экзистенциального отсутствия смысла, полностью освобожденного окончанием войны. Той первой, Великой, как ее называли. В начале тридцатых те же самые женщины, но уже чуть старше, всматриваются огромными, в темных кругах, глазами, намеренно загадочными и неприятно бесчувственными, с тонкими губами à la Грета Гарбо, в шляпках cloche на коротких завитых волосах, в надвигающееся безумное зло. Это безумие их — нас — не миновало, как не миновало ни нашу Зору, хотя она не догадывалась, и, тем более, не предвидела, как не разминулась с художником Шумановичем, который и безумие, и зло не только предугадал, но и увидел их, четко. Девушка Зора (тогда еще не наша), которую в ее селе в окрестностях Шида готовили к замужеству, однажды в августе того, 1941-го, на внезапной развилке судьбы, чудом избежала нависшего над ней зла смерти, годом позже, тоже в августе, а художник Шуманович не избежал. Девушка Зора инстинктивно выбрала положение, как бы это ни выглядело в наш век наивным, архетипическое и спасающее тех, кто пытается увернуться от насилия: ее крупное тело, свернувшееся клубком в канаве под скирдой соломы (вполне архетипическая картина!), предупрежденное собственной паникой и чужими криками, спряталось от облавы, устроенной теми, кто даже на солдатских шапках носил знак ужаса. Художник Шуманович, который, вероятно, уже не придавал значения предупреждениям своего глубинного я, даже не пытался спрятаться и писал, возможно, именно тогда, шидские улочки и, опять же, шидскую церковь в плотной зрелости летнего света. Так девушка Зора, не отмеченная предчувствиями, сбежала от облавы, а он, художник Шуманович, задолго до этого отмеченный предощущением, — нет. Просто ноябрьским днем 1944-го она своими полными, розовыми пальцами тыкала в его полотно, хотя ничего не знала ни о шидском живописце, ни о его судьбе, которая, в какой-то августовский день 1942-го, воспарив над Сремска-Митровицей и Шидом, отступила в никуда. И вот так, тыкая указательным и средним пальцем, ладонью и предплечьем, в том ноябрьском сейчас, наша Зора предопределяла нашу судьбу, по крайней мере, одно из ее направлений, и направляла она ее к наступившему краху.
После опыта, о котором Зора предпочитала не распространяться, весной 1942 года она каким-то образом оказалась в лагере на другом берегу Савы, напротив тогдашнего Белграда, помрачневшего в рабстве, на Бежанийском откосе — Откосе беженцев. (Сейчас на этом откосе не лагерь, а известная больница, в которой я недавно лежала. Вечерами я из кровати смотрела в окно на этот откос беженцев и беглецов, теперь поросший густым, молодым лесом, и в вечерних сумерках, ранних, воображала себе тени тех давних сербов, веками бежавших от резни из Турции через Саву, в Срем, в Австрийскую империю. Они переходили по наклонному откосу беженцев, который, может быть, придавал бодрости отчаявшимся, может быть, давал отдых беглецам, а, может быть, и выкашивал павших духом. Какое название: Откос беженцев. В этом долгом бегстве, к которому я вдруг и сама почти приблизилась, как тень в туманностях времени, но способная видеть мертвых, в силу того, что почти приблизилась к собственному исчезновению, я увидела тени бегущих, увидела, как они поднимаются по откосу, под оставшимися звездами, к небу, которого нет.) Во время войны, Второй мировой, направление движения беженцев вдруг словно изменилось до прямо противоположного: беженцам, сербам «с той стороны», которым повезло, удавалось с Откоса беженцев, из Срема, то есть, с территории Независимого Государства [13], перебраться в Сербию, порабощенную немцами. (Тогда это считалось огромной удачей!) Девушка Зора ускользнула, то есть, планеты ей благоприятствовали, ее перевели из лагеря в Лоборграде в Земун, а потом, сразу же, перевели с одного берега на другой: мой муж, профессор Павлович, однажды вечером привел ее в наш дом, держа за руку, крупную и розовую. Я ни о чем не спрашивала, я перестала спрашивать; он ничего не говорил, он перестал говорить: в течение всего того 1942 года между нами нарастало молчание. Я не спрашивала, но догадывалась, вру, я знала, что мой муж, и сам из Срема, когда-то подданный Империи [14], учившийся в Сремских Карловцах, в Будапеште и Вене, блестяще владевший немецким и венгерским, тем солнечным январским днем не сказал нет уважаемому господину министру просвещения коллаборационистского правительства, и теперь у него важная роль посредника при оккупационных властях в процессе обмена сербских беженцев, узников лагерей в Независимом Государстве Хорватия (в народе «Эндехазия») и в хортиевской Венгрии. И не только эта роль.