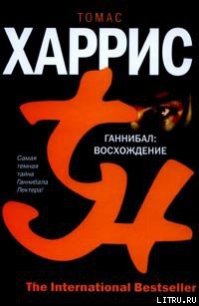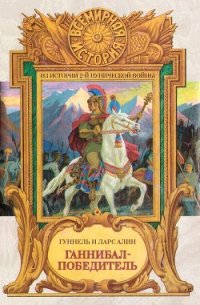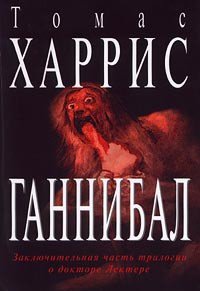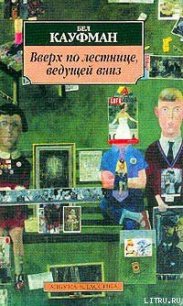Упрагор, или Сказание о Калашникове - Кривин Феликс Давидович (книги онлайн читать бесплатно txt) 📗
Голоса машинок в машинописных бюро обычно хриплые, прокуренные, – будто солдаты не спеша переругиваются между собой и так же лениво перестреливаются с неприятелем. Голос Маргошиной машинки был другой. Так говорят о самом сокровенном, о чем не терпится рассказать, и спешат, то начиная с конца, то опять возвращаясь к началу, а то, вцепившись в середину, долго не могут ее размотать.
Калашников уходил в этот стук, как дорога уходит за горизонт, как усталый путник уходит в сон, как человек уходит с работы тайком от начальства. Но наступает время – и он возвращается, и путник просыпается, и дорога, куда бежит, оттуда и прибегает обратно…
8
Калашников разработал остроумный метод знакомства прямо на улице. Он подходил и спрашивал, который час, а затем уточнял: по местному или по среднеевропейскому времени. Среднеевропейское время сразу к нему располагало, развеивало опасения, что он может ограбить, убить или просто раздеть с недобрыми намерениями. Вот так и случилось, что в один прекрасный вечер Калашников оказался в доме Масеньки.
Дом этот был полной чашей, но такой чашей, в которую можно еще лить и лить, а вылить – разве что с помощью прокурора.
В доме царил дух обладания, обладания без любви, противоположный платонической любви без обладания. В прежней, бесплотной жизни Калашникова только платоническая любовь и была возможна, но теперь, имея плоть, он не мог довольствоваться чтением меню, вместо того, чтоб плотно пообедать. Но в мире внешности почему-то культивировалась платоническая любовь: при остром дефиците обедов, меню печаталось в огромных количествах. Здесь была и любовь к общественной собственности без обладания ею, и любовь к высоким идеалам, чести, самоотверженности… Мир внешности – это был платонический мир, с платонической любовью ко всему возвышенному и телесной, животной страстью к низменным вещам.
Знакомя Калашникова со своей мамой, Масенька намекнула на его среднеевропейское происхождение, и мама засуетилась, стала представлять Калашникова вещам, которые тоже были оттуда. При этом у Калашникова создалось впечатление, что не ему показывают вещи, а его показывают вещам, и он не удивился бы, если б у них открылось что-то наподобие рта и оттуда прозвучало приветствие братского народа.
В завершение осмотра мама спросила, как ему у них нравится, и Калашников по привычке откликнулся на последнее слово. Мама кивнула: «Нам это многие говорят. Многие молодые люди. Но я понимаю, что именно им у нас нравится».
Все, что могло нравиться в этом доме, молчало. Только Масенька воскликнула: «Мама!» – зардевшись для красоты.
Калашников еле удержался, чтоб не повторить за ней: «Мама!» – но это, конечно, было бы преждевременно.
За чаем он стал рассказывать об удивительной стране Хмер, в которой царили краски, звуки и запахи, но свободно царили только звуки. Краски были слишком привязаны к насиженным местам, к тому же они боялись темноты, и когда наступала ночь, их нигде не было видно. А запахи боялись ветра, который их разгонял, и потому пахли робко, с оглядкой – нет ли ветра поблизости. От вечного страха те и другие стали осторожны и подозрительны и никак не могли сложиться в пейзаж или аромат.
И только звуки звучали свободно. И общались свободно, сливаясь в одну общую мелодию. Это была удивительная мелодия. Вот уже тысячи веков миллионы композиторов пытаются ее восстановить, но только множат горы своих собственных сочинений.
Он думал, что Масенька откликнется на этот рассказ. Если она была та, которую он искал, она не могла не откликнуться…
Но откликнулась ее мама. Она сказала, что знает эту страну, что их папа не раз там бывал и даже что-то оттуда привез, когда был там в последний раз с правительственной делегацией. У них, оказывается, такой папа, которого можно послать куда угодно, и он непременно оттуда что-нибудь привезет. Теперь уже было неловко признаваться, что сам Калашников никогда не бывал в стране Хмер, и он принялся ее расписывать так, словно он в ней бывал и даже, кажется, встречался с их папой. Это их поразило больше, чем страна Хмер, потому что сами они с папой встречались довольно редко. Мама заговорила о папе, а Масенька бросала быстрые взгляды на Калашникова и краснела для красоты.
Калашников настолько разнежился, что стал называть Масеньку Зиночкой, а ее маму Жанной Романовной, что ему, конечно, простили, посчитав особой формой вежливости на среднеевропейский манер. Но когда он дома рассказал об этой путанице, Зиночка сказала: «Вы опасный человек, вам ничего нельзя доверить, даже имени». А Жанна Романовна выразилась прямей: «Ходите бог знает где. Будто вам уже и чаю выпить негде».
9
Время между тем шло, и Калашников уже стал забывать о своей прежней, бесплотной жизни. Как он там – с обрыва на обрыв? Или с уступа на уступ? Нехорошо забывать родные места, но вот – и они забываются…
Федусь, например, в селе родился, а разве он помнит? Он среди голой степи родился, но теперь о степи забыл. В степи, конечно, все ровное, а ему надо повыше. Чтоб все выше и выше. Такой он, Федусь. Он хотя и на месте сидит, но по службе продвигается.
Продвижение вместо движения – это закон нашего века. Природой он не предусмотрен. У нее сплошное движение, а продвижения нет. У нее не видно, чтоб муравей продвигался в слоны, у него много движения, а продвижения никакого.
Другое дело Федусь. Начал с голой степи, но давно о ней позабыл. А в степи о нем помнят, детям рассказывают. Чтоб дети гордились, не ленились, выбивались в гору из равнинной местности. Портрет, наверно, повесили. Те, которые придают значение внешности, любят всюду вешать портреты.
Кстати, внешность – это не только тело. Сегодня это и одежда, и квартира, и прочие атрибуты приличного существования. Внешность Федора Устиновича распространилась так далеко, что охватывала даже Кисловодск и южное побережье Крыма, не говоря уже о ближайших спецсанаториях и спецпрофилакториях. Но при том, что он был такой большой спец, здоровье у него осталось таким же маленьким, каким было в детстве, и оно, как это бывает в детстве, пошаливало. Человек шалит в начале жизни, а здоровье его шалит ближе к концу; и не так просто его призвать к порядку.
Однажды Федусь, отправляясь в однодневный спецпрофилакторий, прихватил с собой Калашникова. Калашников был рад расширить пределы поисков своей единственной и прежде всего обратил внимание на молоденькую спецмаму, которая скармливала ребенку банан. Ребенок, жуя банан, играл в шахматы с незнакомым спецдядей. Каждый был поглощен своим: мама ребенком, ребенок шахматами, дядя, которому надоело быть незнакомым, был поглощен надеждой, что с ним, наконец, познакомятся.
«Эх, один раз живем!» Это крикнула специальная старушка, хотя сама она уже одну жизнь прожила и теперь проживала вторую, а может быть, третью. «Побежали?» – крикнула спецстарушка, и Калашников устремился за ней. Но тут же спохватился: за кем он бежит? – и вернулся к молоденькой маме.
На доске значительно поубавилось фигур, и тут выяснилось, что ребенок играет в шашки. У него уже было три дамки, а у незнакомого дяди ни одной. Ребенок провел в дамки королеву и теперь подумывал, как бы провести в дамки – стыдно сказать! – короля.
Вдали показалась старушка. Она бежала, размахивая руками, крутя головой и вращая тазом, но при этом не упустила момент присесть на соседнюю скамью рядом с каким-то профессором или академиком.
В районе спецпрофилактория внешность Федора Устиновича пересекалась с внешностями очень больших людей, и Калашников мог с ними общаться – как гость этой внешности. И тут он обратил внимание на то, что значительная внешность может заменить человеку молодость. Какой-нибудь студент-недоучка в сорок лет старик, а сорокалетний профессор в цветущем возрасте. Или шестидесятилетний академик, нобелевский лауреат, с квартирой в центре Москвы и дачей на берегу финского залива.