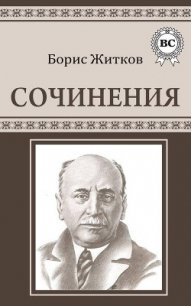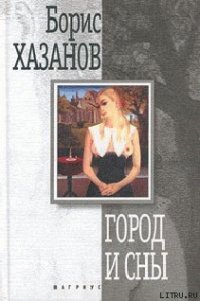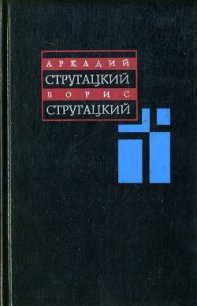Портрет незнакомца. Сочинения - Вахтин Борис Борисович (лучшие книги онлайн .txt) 📗
— Убрать, — брезгливо сказало наивысшее начальство. — Снять и исключить. Принято единогласно.
И добавило помощнику через левое плечо:
— До пенсии трудоустроить.
Филармона Ивановича вывели, одели и выпроводили из дворца в стиле Карла Ивановича Росси навсегда.
Дома Филармон Иванович напоил Персика молоком, потом взял его на руки и, гладя, сказал:
— Почему ты Персик? Хоть бы один рыжий волос имел…
— Так назвали, — ответил Персик.
— Назвали! А ты бы переименовался!
— Бессловесная тварь переименоваться не может, — возразил Персик.
— Какая же ты бессловесная, если со мной разговариваешь?
— Так то с вами, — уклончиво ответил Персик.
— Говори мне ты, — приказал Филармон Иванович. — Если тебе говорят ты, ты обязан тоже говорить ты! Всегда и везде!
— Ты-то не везде, — послушно перешел на «ты» Персик.
— Не тебе в это вникать!
— Спусти меня, пожалуйста, на пол, — попросил Персик.
— Все вы кошки предатели — третесь у ног, пока есть хотите, а насытились — и наплевать на хозяев, — с горечью сказал Филармон Иванович, ставя кота на диван.
— Это не совсем так, — уклончиво заметил Персик. А потом Филармон Иванович давал показания на суде по делу Бицепса и слышал его последнее слово. Эрнст Зосимович говорил, как всегда, невыразительным голосом, но заботился, чтобы его слышали.
— Почему так легко поверили умные, казалось бы, люди, — примерно так говорил Бицепс, — что я облечен огромной властью, хотя ее не было вовсе? Не знаю, гражданин судья, спросите у них, Дук их прости. По-моему, каждому что-нибудь надо, и дружба, даже знакомство с начальством всегда в дефиците. А мне-то зачем было надо всех оделять по потребностям? Тут гражданин прокурор на меня насчитал и бензин, и труд водителей, что возили меня и друзей, и даже амортизацию машин, но ведь это надо для срока, а себе-то я и рубля не взял! Так зачем? Я, гражданин судья, мечтал стать актером, сыграть и Гамлета, и Хлестакова, и Тарелкина, все лучшие роли сыграть. Не получилось, не стал. Вот и подумал: а почему бы не посмотреть, как в реальной жизни примут Ивана Александровича Хлестакова? Приняли прекрасно! Что ж, за триумф в течение двух лет я готов платить…
— Вы осквернили самое святое в советском человеке — чувство доверия к ближнему! — перебил его прокурор.
— О, доверчивый лай бессмертных борзых, — грустно сказал Бицепс, — Дук их прости. Больше не стану, гражданин прокурор, об Иване Александровиче. Не забудьте все же, вынося приговор, что я не грабитель, не шпион, политикой не занимаюсь, так что правильнее всего меня оправдать или дать пару лет условно…
Бицепса приговорили за хищение в личных целях (бензин, труд водителей, амортизация автомашин) на сумму свыше десяти тысяч рублей, за мошенничество и хулиганство к тринадцати годам. После суда на улице Филармону Ивановичу вроде померещилась поэтесса Лиза, ему даже показалось, что она к нему направилась, и он поскорее пошел прочь, спрятав голову в плечи. Он бы поднял воротник и спрятался бы в него, если бы у этого пальто был такой воротник, который можно было бы поднять, чтобы спрятаться.
Глава 5. Последний факт
Руководясь общими догадками, хочется предположить, что роль заключенного не для товарища Бицепса, и потому может он выйти вновь на сцену жизни. Вдруг окажется он при делах, например, внешней торговли и прославится успехами, опираясь на дружбу с царствующими особами, греческими судовладельцами и сенатором Эдвардом Кеннеди? Ах, как хочется верить, что пропасть он может лишь случайно, но ведь случайно пропасть всякий может, так что это не считается… И все-таки — тринадцать лет…
На следующий день после приговора в квартире Филармона Ивановича раздался телефонный звонок. Он последнее время очень боялся одного звонка, которого ждал, не представляя, что будет говорить, зачем, так легче, однако очень ждал. Поколебавшись, он все-таки снял трубку. Звонила лечащий доктор его отца, она сказала категорически, что завтра того выписывают, в девять пусть заберет.
— Как же? — спросил Филармон Иванович. — Курс не кончился.
— Решил главврач, — сказала доктор. — Ваш отец ничем, кроме старости, не болен, а у нас больница, не дом для престарелых!
— Вылечить бы хоть немного, — сказал Филармон Иванович, на что доктор, понизив голос, возразила сердечно:
— О чем вы?! Кого здесь можно вылечить?
Очевидно, кто-то там вышел оттуда, откуда она звонила, но другой кто-то тоже, очевидно, сразу же туда вошел, потому что она громко сказала:
— Значит, ровно в девять.
И повесила трубку.
Однако все вышло не так, как распорядился главврач. Отец узнал о том, что случилось с сыном, потому что был ходячим больным, а в лечебницу привезли лежачего больного товарища Таганрога, который сразу же позвал Онушкина-старшего и по секрету рассказал ему все, добавив, чтобы тот писал наверх, а он, Таганрог, поправившись, посодействует, поскольку собирался было на пенсию, но больше не собирается, после чего в изнеможении уснул. Отец немедленно сел писать, возбужденно писал весь день, а утром все не просыпался, что никого не беспокоило, вплоть до прихода Филармона Ивановича, который стал его будить. Отец очнулся не сразу, посмотрел на сына и узнал. Пока ходили за доктором, сидевшей на утренней пятиминутке, отец в течение получаса смотрел на сына с узнаванием, ничего не говоря. Наконец он глотнул, провел языком по губам и сказал:
— А ты прости меня. А ты все-таки прости.
После чего коротко кашлянул, неудобно уронил голову и затих. Подоспела доктор, Филармона Ивановича выставили в коридор, откуда его медсестра позвала в палату, где его ждал, по ее словам, друг. Товарищ Таганрог с трудом приподнялся на локте и спросил сочувственно:
— Что отец твой? Помер?
По Филармону Ивановичу прошла судорога от волос на макушке, вставших дыбом, до пальцев на ногах, которые скрючило, и он совершил нечто самое для себя неожиданное из всего неожиданного, что он говорил и делал в эти роковые дни, а именно: он двумя перстами перекрестил Таганрога, после чего судорога прошла.
— Видел, видел и такое, — сказал Таганрог, откидываясь на подушку. — Это никому не помогало, не поможет и тебе.
Когда Филармон Иванович уходил, гардеробщица вышла за барьер и с необыкновенным уважением подала ему пальто, потому что слух о посетителе, который крестился в этой больнице, уже разнесся среди младших служащих.
Перекрещенный товарищ Таганрог не успел, к своему сожалению, оказать Филармону Ивановичу дальнейшую помощь — к вечеру он умер, что не удивительно, поскольку в его изнуренном испытаниями теле сожрала чуть ли не все, что было можно, та болезнь, даже имени которой люди боятся, как дети темноты.
Письмо Онушкина-старшего наверх было, как оказалось, адресовано вождю, давно уже покойному, так что врачи, посоветовавшись, передали его не по адресу.
Дальше тоже ничего такого особенного не было. Отца Филармон Иванович хоронил один, если не считать шофера машины и могильщиков. Потом он несколько дней провел дома, где если не спал и не дремал лежа, то сидел за столом, читая свои конспекты. Читал так, словно что-то искал и никак не мог найти, откладывал прочитанные тетради, снова брал их и листал наудачу, так что быстро нарушил их разноцветный порядок. Иногда словно что-то и находил. Так, в голубой тетради под номером восемьдесят четыре он несколько раз перечитал, заметно вдумываясь, слова: «Как утверждает идеалист Мариенберг, без этики нет эстетики», — но, видимо, это было не то, что он искал, потому что тетрадь номер восемьдесят четыре он вообще бросил на пол. Потом он опять-таки долго думал над словами в оранжевой тетради за номером девятнадцать: «Решительно отметая мистический туман, соединяющий этику и онтологию в эстетике», — но и эту тетрадь отложил. Так и не найдя того, что искал, он связал тетради в пачки, штук по десять в каждой, и куда-то унес. Никто этих тетрадей больше не видел, так что, возможно, он их где-то просто закопал.