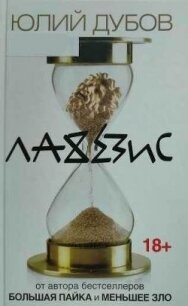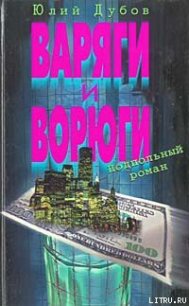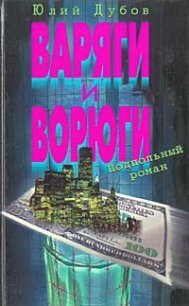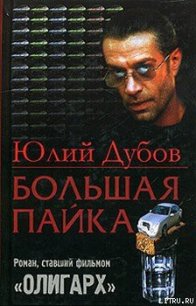Лахезис - Дубов Юлий Анатольевич (серии книг читать бесплатно txt, fb2) 📗
Однако же Кузьмич, возможно что и сам того не ведая, оказал мне неоценимую услугу. Дело в том, что, направляясь открывать дверь, я телефонную трубку на рычаг не положил, рассчитывая продолжить разговор с Людкой, и теперь с дивана, где лежал аппарат, доносилось прерывистое гудение. Занятые государственным делом люди его не замечали, а бездействующему ветерану этот непорядок, судя по всему, сильно мешал. Он нагнулся, положил трубку на рычаг и тут же вытянулся по стойке «смирно», потому что штатский за столом, услышав щелчок, резко повернулся в сторону Кузьмича.
— Что там? — отрывисто спросил он.
— Тщщ… я это… тесезить… Положил, короче.
Штатский встал, подошел к дивану и посмотрел на замолкший аппарат, потом на меня.
— С кем вы говорили по телефону?
— Ни с кем, — ответил я.
Еще только не хватало запутать в эту историю Людку и Фролыча.
— А почему трубка лежала?
— Откуда я знаю, почему она лежала! Потому что свалилась с аппарата. А можно узнать, в чем дело?
— Сами не догадываетесь?
— Нет.
— А вы подумайте хорошенько. Транспортировка оружия для целей вооруженного мятежа — ничего такого не припоминаете за собой?
Я замолчал. Было понятно, что причиной всему служит оставленный у Николая Федоровича автограф плюс наверняка засекли мою машину при перемещении из Белого дома в гостиницу и установили владельца. Утешало, однако же, что за спиной у меня Фролыч со своими кремлевскими связями и авторитетом. Людка наверняка сообразила, что со мной происходит, до того как успела положить трубку.
Вот так я и оказался в Лефортовском следственном изоляторе. Есть такая народная пословица: «От тюрьмы и сумы не зарекайся». Мудрость первой половины этого изречения я в этот день ощутил, а до второй половины время еще не подошло. Скажу одно: если когда-нибудь еще в жизни надо мной нависнет угроза тюрьмы, хоть на сутки, я честно обещаю поднять лапки вверх и сделать все, что от меня потребуют, лишь бы этот опыт не повторять.
Не потому, что там пытают электрическим током и поджаривают пятки на углях, ничего такого и в помине нет. А потому, что ты в одно мгновение перестаешь быть членом человеческого сообщества и попадаешь в нутро отвратительной бездушной машины, которая совершает с тобой всякие манипуляции, не поддающиеся никакому логическому объяснению.
Меня провели по грязному желто-зеленому коридору без окон. Вделанные в потолок тусклые лампочки под стеклянными плафонами лениво цедили сумеречный свет. Завели в Кабинет со столом и двумя стульями, оставили одного. Через полчаса пришел офицер, мельком просмотрел принесенные с собой бумаги, что-то черканул и очень ловко меня обыскал, изъяв часы, зажигалку, сигареты и брючный ремень. Ушел, ласково прикрыв за собой дверь, еще через полчаса вернулся с протоколом изъятия личных вещей, на котором я расписался. Снова ушел. Прошел час, появился уже другой, и меня повели мыться. Вручили мне аккуратный кусочек хозяйственного мыла размером три на три сантиметра. И только после этого я попал в камеру.
Камера — это такая конура два на три метра. Под затянутым решеткой непрозрачным окном — кровать, впритык к ней умывальник в черных пятнах и с текущим краном, тут же за ним унитаз. На потолке одна лампочка в сорок ватт, тоже за стеклянным плафоном. В двери глазок и открывающаяся внутрь кормушка, рядом с дверью кнопка вызова. Если на нее нажать, то придет дежурный надзиратель. Разговаривать с ним — типа требовать адвоката, прокурора или следователя — бесполезно, а можно обратиться с любой из двух просьб — пожаловаться на плохое самочувствие или попросить открыть форточку специальным железным крючком, который у него всегда с собой. А потом — закрыть форточку, потому что на улице октябрь, а отопление в камере не работает.
Телевизора нет. Книг нет. Газет тоже нет. Над дверью — радио. Его можно включить или выключить. Громкость не регулируется, поэтому чуть слышно.
И все. И ты один. Никто не приходит, никуда не вызывают. Ты умер. А то, что внутри что-то стучит или снаружи чешется, так это просто биологическое недоразумение типа подергивания лапок у дохлой лягушки.
В советских детективных фильмах арестованного сразу же волокли на допрос, где умный седовласый следователь его сразу же либо разоблачал, либо наоборот — признавал в нем честного, но заблудшего члена общества. Но это в кино. А в жизни, как я убедился на собственном опыте, никто никуда не спешит — арестованного маринуют в одиночной камере с неработающей радиоточкой до тех пор, пока он не убедится окончательно, что в системе что-то сломалось и про него просто забыли. Вот когда это понимаешь — это и есть самое страшное. Со мной это случилось на четвертый день, а всего этих дней было сто тридцать один.
«Почему на четвертый?» — спросите вы. Да ведь я знал точно, что Людка все слышала, а значит, и Фролыч немедленно информацию получил, а уж его положение в Кремле было таким, что просто вызвать Генерального прокурора или директора ФСБ и приказать немедленно меня выпустить — это просто ничего не стоило. Ну хорошо, предположим, что он еще не настолько высоко взлетел, чтобы таким большим людям приказания давать, но ведь был у него рядом кто-то, кто это точно мог, и достучаться до этого кого-то Фролыч мог элементарно. Меня забрали днем, ну пусть к вечеру Людка его найдет, значит, назавтра — а это уже второй день — Фролыч подключит тяжелую артиллерию, еще день, а это будет третий день, тяжелая артиллерия поработает — и к вечеру мне отдадут часы, ремень, зажигалку и выпустят. И сигареты отдадут. Без курева очень тяжело, а в камере просто невозможно.
Ну хорошо, пусть на третий день не успеют еще бумажки оформить, но уж на четвертый — точно.
Ничего не случилось на четвертый день, и я запсиховал. Нет, я не выл по-волчьи и не пытался разбить себе голову об умывальник, даже голодовку не стал объявлять. Я просто по ночам крутился на кровати, не в силах заснуть, а в половине седьмого утра, когда объявляли подъем, переезжал на стул и вот так и сидел весь день до отбоя, глядя в одну точку и совершенно ни о чем не думая.
У меня всегда пульс был как у космонавта — шестьдесят пять в минуту. Не знаю точно, сколько стало в эти первые дни в камере, ведь без часов посчитать не получалось, но, думаю, что не меньше ста двадцати, потому что сердце колотилось так, будто я только что закончил стометровку с рекордным временем.
А на пятую ночь стало совсем плохо. Дело в том, что я понял вдруг: с Фролычем случилась беда. Огромная и непоправимая беда, такая, что его либо вовсе уже нет в живых, либо он на грани.
Я, когда это понимание пришло, лежал, и вдруг слезы так полились, что не успевал глаза вытирать, и еще обнаружил неожиданно, что скулю громко и даже с каким-то жалобным подвыванием, а потом этот скулеж оборвался резко, и пришли такие страшные рыдания, каких я ни от кого и ни при каких обстоятельствах не слышал, ни на каких похоронах или поминках. И вот эти рычащие рыдания перешли в жуткую икоту, от которой тюремная койка ходуном заходила.
С этой икотой я прожил целых три дня, а потом наступило то самое апатичное умирание, о котором я уже говорил.
В общем — это кошмар. Никому не пожелаю.
Еще через две недели состоялся первый допрос. Когда меня вели по коридору, я точно знал, кого сейчас увижу перед собой, и не ошибся, понятное дело.
Теперь «Кэмелом» уже не я угощал Мирона, а он меня, и от первой же затяжки у меня поплыло все перед глазами, да так, что сразу набухал мне воды в стакан и начал поить из своих рук.
Как и в прошлый раз, он долго валял дурака с соблюдением формальностей, как меня зовут, да где я родился, потом перешел к делу, но ничего нового не сообщил. Мне вменялись участие в заговоре с целью захвата власти вооруженным путем, незаконная перевозка оружия да еще и соучастие в хищении трех автоматов, совершившемся неустановленными лицами, в неустановленном месте и при неизвестных обстоятельствах.
Из вопросов его мне показалось, что из этих трех автоматов успели немного пострелять. Если хоть один найдется, и выяснится, что из него кого-нибудь ранили или убили, то мое положение, и так безрадостное, станет вовсе безнадежным.