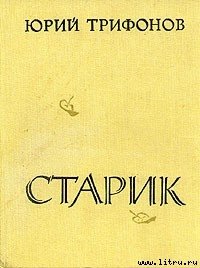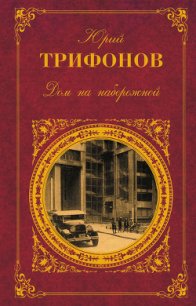Время и место - Трифонов Юрий Валентинович (читаем книги TXT) 📗
Дальше все было так, как она предсказала.
Перезванивались, встречались, она плакала, он мучился, чего хотел, неизвестно, она говорила, что любит его больше всех, больше дочери, больше мамы, муж был не в счет, его как бы не существовало, говорила, что Антипов – самый необыкновенный, добрый и прекрасный мужчина на свете и что такого, как с ним, она ни с кем не испытывала и, хотя знает, что будет ужасный конец, она счастлива, ни о чем не жалеет. Осенью она делала фильм о народных ремеслах, поехала в Суздаль, жила в мотеле, он приезжал, слышал, как она разговаривает с мужем по телефону, голос был сухой, страшноватый, другого человека. Она отдавала приказания. Насчет автомобильных частей кому-то позвонить, что-то достать. По-видимому, он разбирался в автомобиле хуже, в ее голосе звучало раздражение. Она повсюду ездила на автомобиле. «Знаешь, почему я не люблю туристские поездки? Потому что там я без машины. Без машины я не человек». Поговорив насчет запчастей и что-то спросив о дочери, она положила трубку, прошептав: «Тупица!» Был едва слышный шепот, не для Антипова, и он расслышал только благодаря отличному слуху. Но иногда говорила про мужа, что он необыкновенный, что такого порядочного и благородного во всей Москве не сыскать. Вдруг сообщила, что муж все знает, их з а с е к л и, он в безумной ярости и грозится их убить. «Не переживет моего ухода. Способен на чудовищные вещи». Об уходе не было и речи. Но Антипов пристал к ней душой. Этого не было в первые недели. Он не предполагал, что это будет. А теперь он скучал без ее болтовни, без ее рассуждений о том о сем, о книгах, о событиях, об общих знакомых (которые пока не догадывались о том, что они о б щ и е), томился без запаха ее духов, ее смуглой, с восточным подмесом кожи, ее темных волос и синих глаз, привык к словам о том, что он сейчас «единственный писатель, о ком можно говорить всерьез». Дома он не слышал такого. Тут было пристанище, теплое, нора, куда можно было спрятаться ненадолго. Он не думал, что сможет оставить Таню. Слишком много прожито вместе, почти двадцать лет. Но, может быть, – именно потому? Все соки высосаны из этой жизни, не осталось ни вкуса, ни запаха, одни сухие, добротные, прочные изжеванные волокна. Таня не понимала, как он изменился за годы, и от непонимания шла беда. От непонимания была сухость во рту. А та женщина понимала. И жалела его. И могла пожертвовать ради него всем. Она говорила, что г о т о в а п о ж е р т в о в а т ь, и о н в е р и л.
Зимою встречались реже, не было места, иногда разговаривали по телефону, она начинала плакать, умоляла что-нибудь придумать, иначе она заболеет, произойдет несчастье, и он находил – с помощью Мирона, который не знал, для кого, хотя проявлял страшное любопытство – нечто неудобное и рискованное, встречи получались скомканные, наспех, с горьким привкусом преддверия конца. Раза два в морозы, когда некуда было пойти, уезжали за кольцевую, останавливались в глухом месте, мотор работал, в машине было тепло, тревожно, сладко, но как-то по-американски, как-то вроде на троих на бульваре, чокнулись и разошлись, и они чувствовали себя несчастными. Каждая встреча казалась последней. Не было будущего. У нее заболела дочь, она обо всем забыла, погрузилась в болезнь, он старался помочь, куда-то звонил, искал профессора, муж проявил себя идеально, совершил поистине чудеса настойчивости и устроил дочь в самую лучшую клинику к самому лучшему специалисту, и по этому поводу говорилось, что такой человек заслуживает вечной благодарности, и она никогда не сможет причинить ему боль. Через некоторое время дочери стало лучше, она пошла в школу, и он опять испытал прилив любви к себе. Но тут у него настала черная полоса, везде все застопорилось: сценарий отвергли, роман застрял в недрах журнала. Все, что было можно два года назад, теперь становилось сомнительным. Роман надлежало переделать на треть. И, как на грех, от ее мужа кое-что зависело. Он занял новый пост. Ему подавали черную «Волгу», его имя мелькало в газетах: выступил такой-то, принял участие такой-то. Знакомые говорили: хорошо, что такой-то занял этот пост. Он порядочный человек. Антипова же леденила догадка: не его ли вина в том, что все застопорилось? И однажды в чужой квартире, холодной и гнусной, он высказал это предположение. Она возмутилась: «Ты с ума сошел! Он благороднейший человек. Он тебя ненавидит, конечно, но подлости не сделает». Слово «благороднейший», которое она повторяла часто, его задело. Он сказал, что благороднейшие люди отличаются как раз тем, что никого не ненавидят. Ненависть – не свойство благороднейших людей. А ты хочешь, чтоб к тебе относились по-доброму? Чтоб тебя благодарили за то, что ты отнял жену? Он сказал, что жену пока не отнял. И он единственно против неточных слов – не надо называть благороднейшим человека, который ненавидит, как все смертные. Ей это не понравилось. Может, ей не понравилось то, что он сказал: жену пока не отнял. В тот вечер простились прохладно. И она не поцеловала его, как обычно, когда прощались, в машине. Но через неделю раздались звонки, Таня подходила к телефону, бросали трубку, он спустился вниз и позвонил из автомата. «Ты звонила?» – «Да! – сказала жалобно. – Не могу без тебя. Прости, я тебе нагрубила...» Была страстная многочасовая встреча в квартире ее подруги, которая уехала куда-то на несколько дней. Квартира была просторная, но неряшливая, как жилище холостяка, в прихожей стояли лыжи, велосипед, а в комнатах висели фотографии красивых девушек, некоторые были изображены обнаженно и частями. Он спросил: что это значит? Она фотограф. И любит снимать женщин. А какие у тебя с ней отношения? «Замечательные! – Она смеялась, целуя его. – Она отличный товарищ. На нее можно положиться, как на мужика. Среди женщин это редко!» Поздним вечером пили чай на кухне, ели чужое печенье, чужой мармелад, курили чужие папиросы «ВТ» и он рассказывал о своих неприятностях: нигде ничего не двигается, деньги на исходе. Она, жалея, гладила его руку, слушала молча, спросила: много ли нужно? Не придавая разговору значения, он беспечно отмахнулся: много! Надо делать взнос за кооперативную квартиру. Через полгода въезжать. Она смотрела с ужасом. «Ты строишь квартиру?» – «Да. Я говорил тебе». – «Ты не говорил!» – «Я говорил. Ты забыла». – «Я не могла забыть такой вещи! Ты строишь квартиру. Для своей толстозадой Таньки». Она впервые высказалась о Тане злобно и назвала ее по имени. Раньше никогда ничего не говорила о ней, будто Тани не существовало. Впрочем, однажды произнесла насмешливо и таким тоном, точно догадалась о чем-то: «А, знаю! Ты любишь, чтоб здесь было много». И руками показала за спиной. Сама-то стройная и гибкая, хотя не так уж юна, гимнастическое прошлое выручает. Не надо было говорить о квартире. Он не делал из этого тайны, и она знала, конечно, но не надо было напоминать. Опять прозмеилась трещинка в конце свидания. Но он не отнесся к трещинке всерьез: не могла же она, в самом деле, требовать, чтоб он отказался от квартиры! С какой стати? Ведь и она пока ни от чего не отказалась. Нет, тут был наигрыш, было желание постоянно напрягать и без того тугую нить, соединявшую их. Однако, когда он позвонил на другой день, она разговаривала едва слышно, убитым голосом, ничего нельзя было понять, наконец выяснилось – полночи проревела в ванной. Он испугался: «Ира, да что происходит?»
Идти в тот вечер было некуда. Поехали зачем-то за город, в знакомое место под деревней Песьево. Лесная дорога вела к озеру, на берегу которого была окруженная ветлами полянка; летом шоферы пригоняли сюда машины и мыли их водою из озерца. Зимой тут были тишь, безлюдье. Было глупо ехать в такую даль для того, чтобы разговаривать: разговаривали по дороге, разговаривали у озера, а на обратном пути молчали. Он пытался выяснить: отчего она ревела полночи? Вразумительного ответа не было. Оттого будто бы, что он строит квартиру и, значит, всему конец. Но конец бывает из-за другого, не из-за квартир! Значит, из-за другого. Какая разница. Важно, что конец. Неужели она хочет, чтобы он по-прежнему жил в тесноте? Не мог бы работать? Скитался бы по гостиницам и домам творчества? Он устал от такой жизни. Он уже старикашка. Ему сорок пять. Она сказала: «Ты не старикашка, и тебе ничего не нужно. Ты можешь жить где угодно. Я тебя знаю. Ты строишь квартиру не для себя, а для нее. Это ей нужно. Она настояла». Говорила правду. Но почему с такой злобой к женщине, которой сама делала зло? Таня не догадывалась о том, что сейчас ее убивают. Нельзя ли убивать как-то великодушней? Да, Таня мечтала о квартире, ей казалось, что в новом доме начнется новая жизнь и возвратятся старые времена.