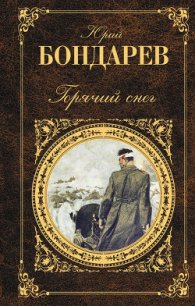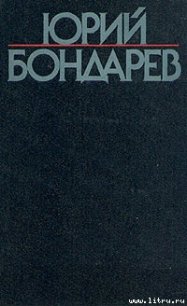Берег - Бондарев Юрий Васильевич (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации txt) 📗
– Еще, еще, друзья! – говорил Никитин с механической однообразностью, как в кошмарном забытьи внушая себе и им необходимость того, что они делали, и, качаясь, упирался плечом в неподатливое тело орудия, стороной слыша сипящие ругательства Меженина, яростно расхристанного, какого-то страшного во всем облике после приступа подавленности:
– Навались, навались, душу вашу мотать! Подыхать, так с музыкой! Шевели задницами! Нав-вались, в гробовую вас доску!..
А когда, продвинув орудия на несколько сот метров по лесному берегу озера, вышли на широкую сухую просеку из мрачной сгущенности дыма, из разжиженной водой низины, Никитин почувствовал, что не в состоянии уже стоять на ногах, и, ощущая дрожание ног, железистую горечь во рту, привалился боком к стволу сосны. Он отупелыми пальцами рвал ворот гимнастерки, он хотел глотнуть воздуха, задыхаясь, жаждая пить его пересохшим горлом; приступами его подташнивало, пот затуманивал зрение, оглушительно и молотообразно била кровь в висках. Он расплывчато видел справа приведенные к бою орудия Княжко – и не поддавалось воле понять, как и почему он здесь…
Все со стоном, мычанием повалились на землю около станин, уткнувшись лбами в прошлогодний пласт хвои. Меженин один, держась за щит, разевая рот надорванным дыханием, воспаленно, следяще смотрел на Княжко, который быстрыми шагами шел от своих орудий, на ходу вытирая носовым платком дочерна измазанные копотью мокрые руки. Княжко шел молча, сапожки его ступали упруго по траве, но легкое покачивание торса при еле заметной хромоте явно выдавало его безмерную усталость, наверное, скрываемую им как человеческую слабость, и досадливо-хмурый взгляд его нетерпеливо искал что-то, ощупывал лес на противоположном берегу озера.
– Тебе ясно, Никитин? – подойдя, заговорил он звенящим голосом. – Ушли! Ушли к черту! Взорвали мост, и пока мы здесь… – Он был раздражен, бледен, гимнастерка намокла на груди, влажные светлые волосы прилипли ко лбу, видимые из-под забрызганной темными пятнами пилотки, и не было сейчас в его внешности той безупречной чистоты, подогнанной опрятности, что всегда поражали Никитина. – Успели оторваться от нас! Ушли по шоссе. Ты понял? – продолжал Княжко, вглядываясь в противоположный берег, и стиснул в кулаке грязный носовой платок. – Знаешь, что получилось? А получилось вот что: не они от нас, а мы уходили от них. Идиотство, идиотство! Упустить три дрянные самоходки! Чтоб по тылам нашим шастали! Никогда не прощу себе!..
– Оставь, Андрей. – Никитин слабо передохнул, добавил с трудом: – Оставь… Послушай, Андрей, наверно, так надо. Кажется, это последний бой. Может быть, нам повезло.
– Что, последний бой? Последний бой должен быть боем, а не… – И Княжко, через зубы выругался, чего он никогда не позволял себе прежде.
«Да, я не хочу этого боя, – подумал Никитин, – а он чувствует другое… Что он чувствует? Злость? Неудовлетворение?»
Все было необычно спокойным впереди, и слева, в низине, где они катили орудия, не рвались снаряды, не вставали разрывы вокруг разрушенного моста. По противоположному берегу озера текла розоватая наволочь тихого пожара, освещенного солнцем, дым, спрессовываясь под соснами, сваливался к воде – догорала там, никак не могла догореть, вслепую подожженная самоходка, но рева моторов за деревьями задымленного леса, металлического лязга гусениц не было слышно… И не стало слышно издали спаренных хлопков противотанковых пушек, только слитое, будто пчелиное гудение роя доходило из глубины чащи, и где-то правее озера несмолкаемыми строчками резали, сплетались и расплетались автоматные очереди, игрушечно-неопасные после недавнего орудийного грома, сотрясавшего лес.
– Пехота, – сказал Никитин утомленно. – Слышишь, Андрей?
– Это я слышу, что пехота, – отрезал Княжко, все комкая носовой платок в кулаке. – Три неповоротливые самоходки среди леса против четырех орудий – и упустили! Нет, эти самоходки на нашей с тобой совести, Никитин! Пошастают они теперь по тылам сдуру, не одного нашего уложат! Вот для тех и будет последний!.. – Он повернулся к Никитину с выражением холодного упрямства, которое появлялось на его лице, когда был недоволен собой, и вдруг спросил: – Что у тебя со щекой? Когда задело?
– А, мелочь. Рикошетом. Осколочек. Ерундовый, – ответил Никитин, и на пересохших губах его выдавилась отвергающая никчемность объяснений улыбка. Ему даже в голову не пришло показать Княжко спрятанный на память в планшетку крохотный осколочек, не убивший его, а лишь напомнивший о том, о чем никогда не говорил сам Княжко, считая разговоры о случайности дешевым расслаблением слабонервных.
– Иди, умойся в озере, – строго сказал Княжко, не высказав ничего по поводу царапины на щеке Никитина. – Вид у тебя, надо сказать…
Никитин чувствовал, каких усилий стоило бы ему заставить себя сделать на неподчиняющихся ногах шагов двадцать к озеру, уже наполовину очищенному от густоты дыма, двухглубинному в голубизне отраженного неба, спуститься к солнечной, невообразимо покойной воде, наклониться, зачерпнуть ее руками, хотел сказать: «Сойдет», – но тут увидел заостренный вниманием взгляд Княжко, обращенный в конец просеки, где наперебой дробили яркий теплый день дальние автоматные очереди, и тоже непроизвольно обернулся туда.
– Так, – сказал Княжко. – Соседи появились.
Там, в конце длинной просеки, золотисто отсвечивающей стволами сосен в мягкой прозелени лесного коридора, возникла скученная группа людей, вынырнула из леса, оттуда долетел голос команды, и эта группа людей устремилась рысцой по направлению озера левой стороной просеки; впереди скачками бежал квадратный, в офицерской фуражке человек в развевающейся плащ-палатке, с автоматом поперек груди; он, не оглядываясь, выкрикивал накаленно: «Не отставать, братцы, не отставать!» – и широко загребал по траве яловыми сапогами, весь верткий, шустрый, весь нацеленный одержимо при своем куцеватом, незначительном росте. Приближаясь к озеру, он первый заметил орудия на просеке, властно и упредительно вскинул руку с зычным приказом: «Стой! Ждать здесь! Отдохнуть!» – и, как шар, пущенный ударом, кинулся к орудиям, развевая крыльями плащ-палатку, крича на бегу:
– Артиллеристы, дьявол ваша бабушка! Загораете, пукальщики? Спины на солнце греете! Сачкуете?
Он, запыхавшись, подбежал к офицерам, одновременно обрадованный и злой, молодое взмокшее лицо было отчаянно какой-то неразряженной отчаянностью недавнего боя, его видавшая виды фуражка с полурасколотым, покорябанным козырьком съехала на затылок, его угольно-черные быстрые глаза, обведенные ожженной краснотой век, всполошенно зыркали по орудиям, по Никитину, по Княжко, как будто не находили того, что должны были найти здесь.
– Вы, буссольные сачки, тыловые артиллеристы, боги войны! По ком же стреляете? Окопались на солнышке – и дрыхнете! Попочки в целости сохраняете? – закричал он привыкшим к подхлестам пехотинским голосом, взвинченным негодующим презрением. – Здорово живете, тыловики рязанские! Понукали из пушек – и загорай? Бой для вас кончился? Сидите, гвоздь вам в карман!
– Ну, вы!.. – неожиданно вскипел Никитин. – Чего орете, как лошадь, черт вас возьми! Откуда свалились?
Однако Княжко, дрогнув лишь бровью, не изменив холодно-упрямого выражения, выпрямился упруго, поднес ладонь к виску, спросил спокойным тоном, с сухой официальностью, за которой стоял сжатый гнев:
– С кем имею честь, разрешите спросить? Исполняющий обязанности командира батареи – лейтенант Княжко. Представляюсь, чтобы вы знали, с кем имеете дело. Прекратите кричать и остыньте. Держите себя в руках! – Княжко поморщился. – Прошу объяснить, что за крик, в чем дело?
– Крикун не крикун! Бой идет, людей кладу, а вы, боги войны, на солнышке валяетесь!
Пехотинец заговорил убавленным тоном, несколько осаженный вмешательством Княжко, беспокойно зыркая то на своих людей, ждущих его в тени сосен, то на орудия, где, потревоженные зычным криком, шевелили головами расчеты – и завиднелись там черные безобразные пятна вместо лиц. Пехотинец вдруг передернулся движением спешки, его плоский и вместе курносый нос расширенно прорезался ноздрями; и, выпростав руку из-под плащ-палатки, он в раздражения вздел ее к покорябанному козырьку.