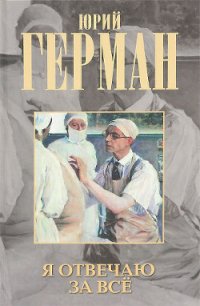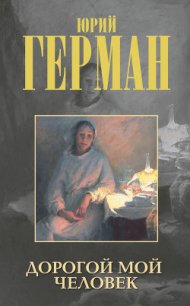Дело, которому ты служишь - Герман Юрий Павлович (бесплатные полные книги TXT) 📗
– Вот видите! – угрюмо и с каким-то скрытым намеком произнес Володя.
– Что – видите? – обозлился Ганичев.
– Да вот насчет пользы и времяпрепровождения. Выходит, не навсегда запомнили...
– Послушайте, Устименко, – сдерживая себя, сказал Ганичев. – Почему вы все время меня судите? Пользуясь тем, что я к вам хорошо отношусь, вы предъявляете мне совершенно нежизненные требования. В конце концов Степанов знал предмет удовлетворительно и...
– Я ничего не сужу, – с тоской в голосе перебил Володя, – я только думаю все время, понимаете, Федор Владимирович, думаю и думаю, и решил вот, что надо жить так, как Богословский живет, и во многом, не во всем, как Пров Яковлевич жил. И ничего нельзя наполовину – иначе пропадешь! Вы, пожалуйста, не сердитесь на меня, мне самому не легко, но только зачем же вы про Степанова сказали, что он предмет знал удовлетворительно? Что же вы сами о своей науке думаете, о патанатомии, если вам удовлетворительно – достаточно?
– Знаете что? – совсем уже бешеным голосом крикнул Ганичев. – Вы мне просто-напросто надоели! Я не желаю слушать нравоучения от мальчишки! Спокойной ночи!
Я устала от тебя
Он поднялся и ушел, а Володя отправился отыскивать Варвару, чтобы пожаловаться ей на самого себя. Варю он видел теперь редко, ей было чуть-чуть совестно его напряженной внутренней жизни, строгого голоса, недобрых подшучиваний по поводу студии и Эсфирь-Евдокии Мещеряковой-Прусской. Не могла же Варя чувствовать себя вечно виноватой в том, что Афанасий Петрович погиб, а Володя, казалось ей, упрекает ее тем, что она жива, радуется, смеется, репетирует спектакли, купается в Унче, бегает на коньках.
Чего он хотел от нее?
Чего требовал строгий взгляд его таких по-прежнему милых глаз?
Почему только дело, работа должны были внушать уважение?
Нынче она была дома, но собиралась на репетицию.
– Как делишки? – спросил Евгений.
– Только что говорили про тебя с Ганичевым, – ответил Володя. – Я долго убеждал его, что ставить тебе удовлетворительную отметку по патанатомии – неверно.
– Конечно, неверно! – согласился Женя. – Я на отлично вызубрил.
– Патанатомию ты не знаешь, – возразил Устименко. – Провалить тебя надо было, а не действовать под влиянием Тарасыча и других.
– Ты что – очумел? – спросил Евгений.
На улице Варя сказала Володе, что он становится нестерпимо тяжелым человеком – сектантом-самосжигателем. И Женька прав, разговор с Ганичевым – поступок не товарищеский.
Володя не обиделся, только удивился и беспощадно ответил:
– Что ты, Варюха? Разве требовательность – это дурно? Зря – сектант, да еще самосжигатель.
– Ну, просто мучитель.
– Это Женькина точка зрения.
– Не только Женькина!
– Тем более, – зло сказал Володя. – Вы все уже одинаково смотрите на вещи. Помнишь, как на террасе толстый Макавеенко проповедовал смысл жизни? Это ваша общая точка зрения. Надо надеяться, что со временем последует трогательное единение – Женька, ты, спекулянт Додик и та их подруга, которая специализируется на самомассаже. Все вы одна шайка.
– Что? – крикнула она. – Да ты в своем уме?
– В своем! – жестко ответил Володя. – В жизни все низкое начинается с маленьких компромиссиков. С крошечных. Вот такусеньких, как ты выражалась, будучи школьницей. А дальше по восходящей или нисходящей, что тебя больше устраивает, – ты, Евгений, Ганичев, твоя мамаша, Додик...
Он уже не соображал, что он говорит. Его несло. Ведь он пришел к Варе за помощью, за поддержкой, а она оказалась с ними, с его врагами.
– В общем, я устала от тебя, – наконец сказала Варвара. – Прости, очень устала. И от твоих грубостей устала. Кроме того, мне надоели проповедники, среднее образование у меня уже есть, что Волга впадает в Каспийское море – мне известно. А ты, Вовочка, слишком чистенький. Иди своей дорогой, свети другим, сгорай сам, а я пойду своей тропочкой. Будь здоров и расти большой!
Она шмыгнула носом, так ей стало себя жалко и так жалко Володю – он просто не понимал, видимо, о чем она говорила. И она сама толком не разбиралась в своих чувствах, она обиделась, и он должен был попросить у нее извинения, но он только хлопал дурацкими мохнатыми ресницами и молчал. Молчал, как умел это делать только он, а потом повернулся и зашагал в библиотеку, ни разу не оглянувшись.
«Ну, хорошо же!» – решила она. – Ты у меня еще попляшешь!»
Холодный ветер сек ей лицо, она ждала – неужели не обернется? И что это все в конце-то концов такое? Любит он ее или нет? Или уже забыл свое сумасшедшее письмо из Черноярской больницы? Он смотрит на нее как посторонний, ни о чем не спрашивает, а когда она приходит к нему – занимается вдвоем с Пычем. Или его нет дома, или он спит со своими книжками в руках. Что это действительно такое?
«Если обернется, то все в нашей жизни будет прекрасно! – с безнадежным чувством загадала Варвара. – А если нет?»
Он не обернулся.
Он шагал вверх по Горной улице к своей библиотеке. Его старое, потертое пальтишко трепал ветер, одно ухо шапки с тесемкой болталось.
Самый близкий, самый милый ее сердцу человек, глупый, длиннорукий, уходил из-за разговора о каких-то компромиссах. Какие компромиссы?
Крикнуть?
Побежать?
Остановить во что бы то ни стало и объяснить то, чего столько людей не понимают: нельзя ссориться по пустякам, когда уже существует любовь; нельзя обижаться, сердиться! Из-за мелких обид люди теряют друг друга, потом пустяки превращаются в снежную лавину – и с ней уже не справиться человеку!
Остановить его вот сейчас, сию секунду, позвать!
Но она не смогла.
Она едва слышно сказала:
– Володя! Ты не смеешь уходить!
Но он не слышал.
Тогда, сердито и гордо выпрямившись, она пошла в свою студию имени Щепкина репетировать очередную шпионку. В последнее время ей стали подсовывать роли коварных пожилых шпионок с одышкой. А когда Варя утверждала, что такое ей не сыграть, то Мещерякова-Прусская хрустела длинными пальцами и говорила своим ровным, всегда усталым голосом:
– Ах, моя дорогая, неужели вы не понимаете, что для развития дарования прежде всего необходим тренаж. Да, да, тренаж в квадрате и даже в кубе.
«Тренаж так тренаж!» – вяло подумала Варвара, вышла из-за кулисы, изображавшей плакучую иву, и заговорила:
– Итак, товарищ Платонов, вернее, господин Платонов, если вы раскроете меня – ваша жизнь кончена! Если же вы совершите взрыв турбины, то вас ждут чековая книжка, огни ночного Монмартра, зеленые столы Монте-Карло, заслуженный отдых в Альпах, любовь...
– Степанова, к чему слезы? – спросила Мещерякова-Прусская.
– Ни к чему! – ответила Варвара. – Так же ни к чему, как вам ни к чему вторая фамилия – Прусская! И почему – Прусская? Почему не Бельгийская, не Французская, не Американская? Почему Прусская? И пожалуйcта, и нате, и я ухожу. К черту!
Она спрыгнула с маленькой, низенькой клубной сцены и не спеша, гордо подняв голову, пошла к двери. Только тогда Мещерякова-Прусская опомнилась и закричала голосом базарной торговки:
– Вон! Нахалка! Я вас исключаю! Убирайтесь навсегда!
– А почему вы так орете? – спросил Борька Губин. – Что вам тут – капиталистическая частная антреприза? Здесь объединенная театральная студенческая студия, и мы никому не позволим...
Потом Губин догнал Варвару.
– Ничего, она теперь продумает свою системочку кнута и пряника, – сказал он Варе. – Мы, слава богу, не дети. Хватит.
Варя молчала.
– У тебя неприятности, что ли? – спросил Борис.
Варвара ничего не ответила. Губин еще помолчал, потом попрощался, но не свернул на свою улицу. Он давно и безнадежно был влюблен в Варвару: с того самого дня, когда Володя наложил жгут мальчику-пастушонку на рельсах. Но всегда понимал, что Володя крупнее и лучше его. И не мешал им. А сегодня он совсем расхрабрился и спросил:
– С Владимиром поссорилась?
– А тебя это, кстати, совершенно не касается! – сказала Варя. – Попрощался и хромай домой. Я в провожатых не нуждаюсь.