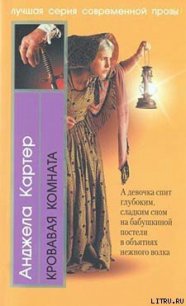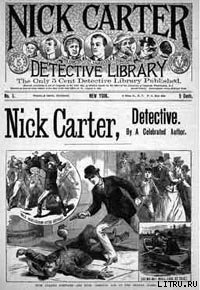Адские машины желания доктора Хоффмана - Картер Анджела (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
— Милая Альбертина, как тебе удалось одновременно быть и Ляфлером, и Мадам?
— Нет ничего проще; — отвечала она. В ее речи слышался едва заметный отзвук какого-то непривычного акцента, а свои фразы она строила из тщательно подобранных слов с чрезмерным педантизмом человека, в совершенстве овладевшего иностранным языком, хотя я так никогда и не выяснил, каков был на деле ее родной язык. Хотя в буквальном смысле родным — материнским — языком, языком ее матери, был китайский.
— Я спроецировала себя на подвернувшуюся под руку отзывчивую плоть Мадам. В конце концов, разве она не предназначалась для постороннего пользователя? И Ляфлер из стойла, где он находился в окружении ржущих лошадей, спроецировал себя, то есть меня, в Звериный Зал, обрядил меня в телесную оболочку Мадам. Она была вполне реальной, но эфемерной видимостью. Под влиянием достаточно страстной тоски дух — или даже, рискнем сказать, душа — страдальца или страдалицы может породить двойника, который присоединится к отсутствующему возлюбленному, в то время как исходная модель продолжает свою обычную деятельность. О Дезидерио! Никогда не недооценивай силу желания, в честь которого ты назван! Однажды в сумерках Ян Юцзи выстрелил из лука в, как он думал, дикого быка, и стрела по самое оперение вошла в скалу, которой на самом деле был этот «бык» — благодаря его страстной убежденности, что эта скала живая.
Я был не против, чтобы она читала мне лекции, ведь она была так прекрасна, и заявил, что немедленно хочу ее со всей возможной страстностью, но она на это уклончиво ответила, что ей были даны определенные указания и она боится, что нам придется повременить.
— Давай будем не только влюбленными, но и таинственными, — сказала она, цитируя одно из своих «я» с таким ироническим изяществом, что я поддался ее очарованию — в достаточной степени, чтобы подавить свое разочарование и полностью отдаться лесной прогулке бок о бок с нею.
Вскоре она подстрелила маленького, схожего с кроликом зверька, неосторожно забравшегося на валун, чтобы умыть лапками мордочку, и, когда мы выбрались на какую-то прогалину, — а тени тем временем все углублялись, свидетельствуя о наступлении вечера, — я освежевал тушку, а моя спутница, обнаружив на солдатском поясе трут, развела костер и приготовила нам ужин. Поев, мы уселись рядышком и, глядя, как угасают алые угли, разговорились.
— Да, граф был опасен. Я держала его под бдительнейшим присмотром. За всю войну это, пожалуй, самое ответственное мое задание. Если бы я могла, я забрала бы его с собой в замок к отцу, чтобы завербовать в наши ряды, ибо он был человеком огромной силы, хотя и чуть нелепым, когда реальный мир не слишком далеко заходил навстречу его желаниям. Но он делал все, что мог, чтобы поднять этот мир до своего уровня, даже если его воля и превышала достигнутый им уровень самопознания. Так он и изобрел этих жутких клоунов, Пиратов Смерти.
Но от чего я боязливо поеживалась, если не впадала в ужас, так это от чисто рассудочной природы его ненасытности. Он был самым метафизическим из всех либертенов. Когда его посещали страсти, своей ясностью и интеллектуальностью они пришлись бы впору геометру. Он подходил к плоти так, будто собирался доказывать теорему, и даже если ему самому казалось, что некоторые его страсти ничтожны и не стоят выеденного яйца, все равно все они были предварительно продуманы. Перед своими страстями он изображал деспота. Какой бы гиньоль ни разыгрывался в его постели, он всегда рассчитывал варианты загодя в уме и столь часто прокручивал все у себя в мозгу, что само представление оказывалось идеальным подражанием импровизации. Его желание становилось подлинным из-за того, что было абсолютно деланным.
Но все же оно оставалось подражанием. Он мог извергать сперму потоками, но никогда не высвобождал энергию. Вместо этого он высвобождал силу, энергии противостоящую, силу, лишающую жизненных сил, полную противоположность — хотя столь же мощную — тому подобию электричества, которое течет между мужчиной и женщиной во время полового акта.
(Она мягко сняла мою руку со своей груди и пробормотала в скобках: «Еще рано».)
— Однако исполнял он все это просто замечательно. В постели невольно приходило в голову, что граф гальванизируем какой-то внешней динамо-машиной. Этим электризующим движком была его воля. На самом-то деле фатальной ошибкой графа было то, что он принял свою волю за свое желание…
Тут я перебил ее с некоторым раздражением:
— Но как отличить волю от желания?
— Желание невозможно сдержать, — с категоричностью педагога заявила Альбертина, невзирая на то, что сама она в этот момент как раз-таки сдерживала мое желание, и тут же продолжила свою тираду:
— …и тем самым по своей воле внушал себе желания.
Я вновь прервал ее:
— А как получилось, что он так и не узнал, что ты — женщина?
— Потому что он всегда брал меня сзади, то есть in anum, — терпеливо разъяснила она. — А кроме того, похоть делала его слепым ко всему, помимо его ощущений.
Она опять подхватила нить своих рассуждений.
— Его самооценивающее «я» внушило ему желание стать чудовищем. Это открепленное, внешнее, но в то же время и внутреннее «я» стало для него и драматургом, и аудиторией. Сначала он захотел уверить себя, что одержим демонами. Потом — что сам стал демоном. Он даже спроектировал костюм для этой роли — эти декольтированные колготки! Эта кожаная курточка! Когда он достиг окончательного примирения с проецируемой на другого собственной самостью, с этой иконой его разрушительного потенциала — гнусным негритосом, — он просто-напросто довел до совершенства тот самоупивающийся дьяволизм, который давил и плющил этот мир, когда он по нему проходил, — совсем как экзистенциальная версия колесницы вождя людоедов. Но его зацикленность на верховенстве собственной автономии делала из него одновременно и деспота, и жертву материи, поскольку он оказывался в зависимости от той точки зрения, что материя ему подчиняется.
Поэтому, впервые испытав боль, он умер от шока. Но все же он умер счастливым, ибо тот, кто причиняет страдания, более других любопытствует касательно его природы.
Но, поступив к нему на службу, я сразу поняла, что должна оставить свои планы по его вербовке в наши ряды, ибо быстро разобралась, что он не сможет служить никому, кроме самого себя. Однако если бы он захотел — или внушил себе такое желание, — он смог бы сравнять с землей замок моего отца, между делом дохнув на него, и взорвать все колбы и пробирки, просто подняв их на смех. После чего я путешествовала вместе с ним, чтобы изолировать его, подвергнув своего рода карантину.
— Поначалу я решил было, что граф — твой отец, сам Доктор.
— Мой отец? — в удивлении вскричала она, после чего долго и очень мелодично смеялась. — Ну а мы сначала решили было, что он — Министр! Даже после встречи с настоящим Министром я продолжала считаться с такой возможностью. От шагов и того и другого содрогается земля.
— А когда вы перестали считать меня вражеским агентом?
— Как только мой отец установил, что ты влюблен в меня, — сказала она таким тоном, как будто это само собой разумелось.
Ночь постепенно полностью вошла в свои права, и те огоньки, что не вышли ростом, такие, как змеиные очи или искорки светляков, расцветили блестками черные бархатные поверхности вокруг нас, но глаза Альбертины по-прежнему сияли, словно неугасимые светила. Они сияли неописуемым янтарным блеском, а формой напоминали две уложенные на боковую слезинки. Но не цвет и не форма казались главным в этих невиданных глазах, а скандальный вопль страсти, неотвязно звучавший из их глубин. Глаза ее были голосом черного лебедя; глаза ее смущали и путали все чувства, и ни сну, ни смерти не под силу их утихомирить или притушить. Они лишь чуть подернуты завесой светозарного праха…
Первую часть ночи она спала, а я нес караул, ибо мы остерегались диких зверей; вторую уже она оберегала мой сон, и того же распорядка мы продолжали придерживаться весь остаток нашего путешествия, хотя и дни и ночи вскоре совершенно распались и у нас не осталось никаких представлений о том, много ли минуло времени и, вообще, утекло ли сколько-нибудь влаги в образе облачных масс, прежде чем буйный дождевой лес чуть поредел и мы вступили в более доброжелательную, более женственную страну, полную сверкавших драгоценным опереньем птиц с девическими личиками и яйцекладущих деревьев, и в этих краях не осталось уже совсем ничего, что не было бы чудесным.