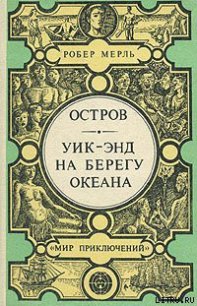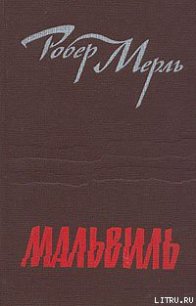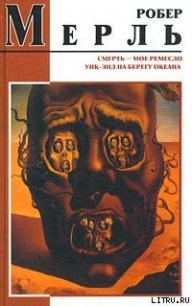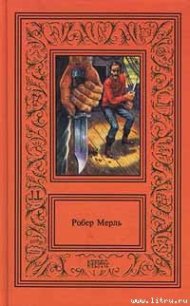За стеклом - Мерль Робер (онлайн книга без txt) 📗
– Я сегодня переспала с Жоме. Я была девушкой, а сегодня переспала с ним.
Он обалдело смотрел на нее. По ее тону и лицу (но он видел ее плохо) нельзя было понять, гордится она тем, что сделала, или горько об этом сожалеет. Может, то и другое вместе. Разве в них разберешься, в девочках. После паузы он сказал:
– Ну что ж, я полагаю, если ты это сделала, значит, ты этого хотела.
Она сказала отчетливо:
– Нет, не хотела.
– Зачем же тогда?
– Чтобы не быть девушкой.
Менестрель помолчал, потом сказал:
– Это было для тебя так важно, перестать быть девушкой?
– Да. Я думала, что почувствую себя свободной.
– И почувствовала?
– Не знаю, – в голосе ее было сомнение. – Сначала я была довольна. А потом гораздо меньше.
Менестрель смотрел на нее. Вот она сидит на моей кровати, вся из округлостей и изгибов, черты лица мягкие, мелкие. Как красиво, как трогательно девичье тело. Он ощущал в себе уважение к этому телу, а она – вот так, с первым попавшимся… Самый факт, что она отдалась, его не шокировал, нет, его возмущало, что она сделала это так по-глупому, разрушительно, очертя голову.
– Послушай, – сказал он, – ты знакомишься с Жоме в полдень, а через три или четыре часа спишь с ним. Это ведь глупо, а?
– Не в нем дело, – сказала она, качая головой. – Для меня Жоме был не в счет.
Менестрель опустил глаза. Чудовищно! Нет, этой фразы я не забуду: «Жоме был не в счет!»
– Значит, ты его не любишь?
– Конечно, нет, скажешь тоже!
– А он?
Она пожала плечами.
– Тогда почему Жоме? – сказал Менестрель.
– Не знаю. У него такой солидный, такой опытный вид. И потом, за ним бегают все девочки.
Менестрель моргнул, опустил глаза, проглотил слюну. Ясное дело, у меня вид не солидный и не опытный. Он вдруг с ужасающей силой ощутил себя обесцененным, униженным, сброшенным со счета, и несправедливость этого чувства его возмутила. Он, значит, ничего не стоит. Только потому, что у него нет этих идиотских морщин и синяков под глазами, которые есть у Жоме. Он сказал слабым голосом:
– А от меня чего ты ждешь?
Она посмотрела на него с торжественным и детским выражением на лице.
– Я хотела бы, чтобы ты стал моим другом.
Ах вот что. Распределение обязанностей Жоме – лишает девственности, я – дружу.
– Я? – сказал он сухо. – Почему именно я?
– Ну, – сказала она смущенно, – ты мне симпатичен.
И, поскольку он молчал, добавила:
– Конечно, я мало тебя знаю. Но в тебе есть что-то тонкое, чувствительное, мечтательное…
Он пожал плечами и сказал с раздражением:
– Ты ошибаешься. Я, знаешь, совсем не такой. Голова в облаках, но ноги на земле.
– Что это значит?
– Я ничем не отличаюсь от других ребят. Я тоже не прочь переспать с девочкой.
Прошла секунда. Потом Жаклин широко открыла свои «сильнодействующие» глаза и направила их огонь на него.
– Ну что ж, – сказала она, – за чем дело стало?
Он посмотрел на нее, совершенно ошарашенный. Потом его вдруг захлестнул гнев, и он обрел голос.
– Послушай, – сказал он со сдерживаемой яростью. – Не предлагай мне себя, как чашку чая! Ты все портишь.
Она пожала плечами.
– До чего же ты старомоден, – сказала она с презрением.
И она его еще по-снобистски третировала, только этого не хватало! Он сжал правой рукой край стола.
– Знаешь, не думай, что ты на гребне новой волны только потому, что переспала с Жоме.
Она моргнула, глаза ее опять наполнились слезами, но, вспомнив о туши, она сдержалась. Сжавшись в комочек, поджав под себя ноги, как кошечка, она рискнула осторожно взглянуть на Менестреля. Она почувствовала к нему какое-то новое уважение. Ну конечно, типичный мазохизм – он дал мне по морде, и я в восторге; в те времена, когда я еще ходила к исповеди, аббат меня бранит, а я так и сияю, теперь они, говорят, даже бранить перестали и покаяния не налагают: зачем же тогда исповедь? Внезапно ее охватило презрение к самой себе. Ей было отвратительно в себе все: дурацкая ненависть к родителям, безграничный эгоизм, постоянное вранье, попытка самоубийства, безалаберность в занятиях, и мальчики, и то, что она заранее знала, как все будет, ничего, ничего, никогда, она просто ненормальная, ей это всегда было известно, она подумала с горьким удовольствием, шлюха, вот я кто в глазах Менестреля. Она стиснула зубы, ну что ж, раз так, они увидят, я вымараюсь в грязи, я стану отдаваться кому попало, пойду в бидонвиль, скажу арабам: вот я, кто желает? Захочу и сделаю. Или нет, я покончу с собой, после моей смерти они спохватятся. Она вдруг увидела себя распростертой на кровати, в своем черном платье, бездыханную, без кровинки в лице, ей стало ужасно жаль своей молодой жизни.
Она посмотрела в глаза Менестрелю и сказала с вызовом:
– Я в прошлом году кончала с собой.
Непоследовательно. Вне всякой связи с тем, о чем мы только что говорили. Или эта связь от меня ускользает. Сидит тут, на моей кровати, полная жизни (и вообще довольно полненькая), и ни с того ни с сего заявляет: я мертвая. У него на языке уже вертелось – разумеется, из этого ничего не вышло, – но он вовремя спохватился. В прошлом году они долго беседовали с Демирмоном о самоубийстве. «К самоубийцам никогда не следует относиться легкомысленно, – говорил Демирмон, – они крайне чувствительны ко всякому вызову. Осторожнее. Нужно обращаться с ними тактично».
– А что тогда случилось? – спросил Менестрель нейтральным тоном.
– Дело было так, – заговорила она торопливо, проглатывая слова, точно боялась, что не успеет рассказать. – Я встречалась с одним мальчиком, а папа, сам понимаешь, был категорически против. И тут я заболеваю. Ладно, я домой не иду, а иду в университетскую больницу. Понимаешь, я не хотела, чтобы меня лечили как папину дочку. И там в течение двух недель ребята и девочки в моей палате только и говорят, кто да как кончал с собой и вообще рассуждают о самоубийстве и о бессмысленности жизни, и о том, как противно становиться старым, взрослым. Ладно. Выхожу я из больницы, и папа с места в карьер заводится, начинает про этого мальчика. Ну, я в тот же вечер и решила покончить с собой.
– Как?
– Ночью. С помощью газа и снотворных.
– Зачем же сразу то и другое?
– Чтобы побыстрее. Но я совершила ошибку, потому что газ – это мамин пунктик. Она его унюхала, вскочила, бросилась в кухню, вызвала доктора, и они вдвоем заставили меня вывернуть внутренности наизнанку.
Она вдруг расхохоталась. Смех у нее был звонкий, почти детский.
– Чего же ты смеешься?
– Я вдруг вспомнила маму. Мама, знаешь, у меня маленькая, кругленькая, и даже в эту ночь она успела надеть свои домашние туфли без пятки, на высоких каблуках и, главное, она кудахчет без остановки, суетится, как курица, воздевает ручки к небу и кудах-тах-тах, кудах-тах-тах! – Она перестала смеяться и сказала с удовлетворением: – Папа – тот ни слова не проронил. Он был белый, как его пижама, и не смел глаз на меня поднять. И это было мне здорово приятно, потому что папа, особенно в пижаме, вызывает у меня отвращение. Менестрель безмолвствовал. «Девочкам самоубийства, как правило, не удаются, – говорит Демирмон, – потому что они кончают с собой в пику кому-нибудь. Вы понимаете, что я хочу сказать, – с тайной надеждой выжить и насладиться тем, как они насолили этому человеку. Разумеется, „неудача“ может „не удаться“, и тогда они умирают на самом деле (серьезное лицо, приглушенный голос). Осторожнее. Особенно с теми, которые склонны к повторным попыткам».
– Думаешь, тебе пришло бы на ум наложить на себя руки, если бы ты не наслушалась самоубийц в больнице? – сказал Менестрель.
Слова «наложить на себя руки», он произнес с удовольствием. Это выражение употреблял Демирмон, а недавно Менестрель прочел его в «Монде». Оборот казался ему изысканным. Он подумал, увижу Демирмона, непременно расскажу ему о Жаклин. Он заранее представлял себе заинтересованный взгляд Демирмона, устремленный на него, когда он в скупых словах выделяет узловые моменты этой истории. Он чувствовал себя счастливым, хотя терял время и не занимался старофранцузским. Неплохо будет, например, отметить, что в больнице сработал эффект заразительности. Ему еще удастся когда-нибудь сделать остроумное наблюдение, не пришедшее в голову самому Демирмону, и тот удивленно взметнет брови.