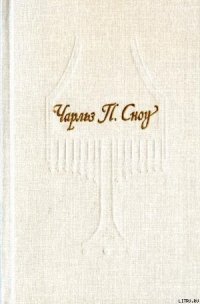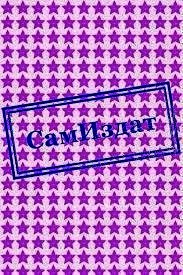Возвращения домой - Сноу Чарльз Перси (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений .txt) 📗
– Я бы так не смог, – заметил я.
– Нет, в самом деле, – продолжал Джеффри, – если бы многие из нас брали себе дело по плечу да все свое внимание сосредоточивали на вещах, реально осуществимых, напряженности в мире стало бы гораздо меньше, а силы добра и разума могли бы восторжествовать.
– По-моему, это очень опасное заблуждение, – отозвался я.
Он снова меня провоцировал; раздражение, не покидавшее меня за этим столом, прорывалось в моем голосе; на сей раз, казалось мне, я имел достаточный повод. Во-первых, квиетизм подобного рода становился весьма распространенным среди моих знакомых, и это вызывало тревогу. Во-вторых, сам Джеффри представлялся мне слишком самодовольным, он рассуждал, как человек, смотревший на происходящее свысока, и, подобно многим людям, которые ведут общественно полезную и честную жизнь, подобно многим неиспорченным людям, своим эгоизмом изолировал себя от общества.
Внезапно в нашу беседу вмешалась Маргарет.
– Он совершенно прав, – сказала она мне.
Она улыбалась, стараясь держаться непринужденно, как и я в разговоре с Джеффри, но было видно, что она взволнована и сердится.
– Почему ты так думаешь?
– Мы должны браться только за те дела, которые нам под силу.
– Я считаю, – сказал я, начиная сердиться, – что человек не имеет права безучастно относиться к окружающей его действительности. А если он к ней безучастен, то, я уверен, от этого проигрывает только он.
– Что значит проигрывает?
– Проигрывает как человек. Как всякий неуемный оптимист, который отрешается от всего, что может его огорчить. А я-то думал, что для тебя унизительно не страдать своими страданиями и не радоваться своим радостям!
Маргарет улыбнулась с некоторым злорадством, словно довольная тем, что я оказался еще несдержаннее ее.
– Самое неприятное то, что, когда доходит до дела, такие рассудительные люди, как ты, становятся совершенно беспомощными. Ты считаешь, что Джеффри витает в облаках, но ведь он приносит несравненно больше пользы, чем ты. Ему нравится лечить детей и хочется быть счастливым. Неужели тебе никогда не приходило в голову, что никто, кроме тебя, не тревожится о том, унижает он себя или нет?
Я терпел жестокое поражение; я не мог переубедить ее – мне было больно от того, что она столь рьяно бросилась на его защиту.
И тут мне тоже захотелось причинить ей боль.
Я напомнил, что никогда не считал себя вправе учить других жить правильно, как это делали, например, друзья ее-отца лет двадцать назад, и для чего нужно самому находиться в исключительно привилегированном положении.
– Если уж говорить честно, – я взглянул на Джеффри, потом на нее, – вы немногим отличаетесь от них. Вы бы так не рассуждали, не достанься вам волею судьбы одна из немногих гуманных профессий и не принадлежи вы оба той же волею судьбы к семьям, которые имеют возможность сами сеять добро, а не ждать его от других.
– Льюис! – воскликнула она в ярости, впервые за три года назвав меня по имени. – Это несправедливо.
– Вот как? – спросил я, наблюдая за тем, как краска заливает ее шею и лицо.
– Что ж, не стану отрицать, – рассудительно сказал Джеффри с раздражающей прямотой и самодовольной улыбкой, – в этом есть доля правды.
– Неужели ты хочешь сказать, что я оказываю кому-нибудь благодеяния? – вскричала она.
– Отдельным людям нет, этого я бы не сказал. Но в общественном плане – конечно, да.
Ее глаза потемнели от ярости, щеки пылали; да, она всегда бывала именно такой, когда сердилась: бледность исчезала, и она казалась необычайно эффектной.
– Признаюсь, – миролюбиво заметил Джеффри, – я склонен считать, что он прав.
– Не хватает еще, чтобы ты причислил меня к снобам! – Ее глаза, все еще яростные, не отрываясь смотрели на меня.
– Что ж, если понимать это не буквально, то так оно и есть.
Джеффри напомнил ей, что уже половина второго и пора кормить Мориса. Все еще пылая ко мне гневом, она, ничего не сказав, решительно взяла со стола поднос и повела нас в детскую.
– Вот он, – сказал Джеффри, и я впервые увидел ее сына.
Яркий сноп солнечных лучей пересекал комнату по диагонали, но загончик Мориса стоял в тени; сидя спиной к загородке, как медвежонок в зоопарке, забившийся в угол клетки, он медленно раздирал на куски какой-то журнал. Я слышал о его чрезмерно раннем развитии, но, хотя мог сравнивать только с сыном моего брата, ничего особенного в нем не заметил. Я просто увидел, что он рвет бумагу с присущей всем младенцам торжественной, сосредоточенной беспомощностью, которая делала движения его рук и локтей похожими на запечатленные в замедленной киносъемке движения пьяного.
Я не подошел к нему, а со стороны наблюдал, как он самозабвенно продолжал свое дело, даже когда Маргарет заговорила с ним. Это был удивительно красивый ребенок – и мне стало больно, хоть я и был готов к этому. Гены сыграли очередную свою шутку и собрали в его чертах все лучшее, что было в его родителях и прародителях, и уже сейчас под младенческой пухлостью угадывался красивый овал лица его матери и гордая посадка головы отца. Легко было представить его себе молодым человеком, темноволосым, задумчивым, сдержанным в отношениях с людьми, и именно поэтому всеобщим любимцем.
Маргарет сказала ему, что пора кушать; он ответил, что не хочет.
– Что же ты хочешь? – спросила она с той же ласковой суховатостью, с какой обратилась бы к любовнику.
Малыш теперь сжимал в руке мячик от пинг-понга и, как только мать вытащила его из загончика, стал кидать его то в зеркало над камином, то в картину возле своей кроватки.
Джеффри вышел, чтобы принести ему еще какую-то еду, но малыш не обратил на его уход никакого внимания и продолжал забавляться мячом, а я следил за движениями его плеча, такими плавными и мягкими, будто у него суставы были на двойных шарнирах.
– Это его любимое занятие, – сказала Маргарет.
– Он как будто довольно крепкий, – заметил я.
Она улыбнулась: рядом, был ее детеныш, и она забыла о ссоре. Стоя возле него – он уже доставал ей до бедра, – она не могла скрыть того, о чем умолчала на приеме у отца и насчет чего Джеффри был так многоречив, – своей страстной любви к ребенку. Эта любовь выражалась на ее смягчившемся лице, сковывавшая ее тело напряженность исчезла. И снова, как и в ту минуту, когда я увидел, как красив ребенок, меня что-то больно кольнуло: никогда прежде я не замечал в ней столько нежности.
– Он любит пробовать свою силу, – сказала она.
Я понял, что таилось за этими словами. Подобно многим тонким натурам, она часто жалела, – в особенности до того, как убедилась, что способна сделать человека счастливым, – что ее собственное детство прошло в такой изысканной обстановке, не было попроще и поближе к земле.
Я что-то ответил, желая показать, что мне понятен смысл ее слов. Она снова улыбнулась, но Морис, рассердившись, что мать не обращает на него внимания, стал кричать.
Пока он ел, я не принимал участия в общем священнодействии, озаренном солнечным лучом, позолотившим ножки высокого стула. Маргарет уселась перед Морисом, а Джеффри – сбоку; ребенок смотрел на мать немигающим взглядом. Съев две-три ложки, он потребовал, чтобы она ему спела. И тут мне пришло в голову, что за все время, пока мы были вместе, я ни разу не слышал, как она поет. Она запела, и голос у нее неожиданно оказался звучным и глубоким; ребенок не сводил с нее глаз.
Песня наполнила комнату. Джеффри, улыбаясь, смотрел на сына. Луч солнца падал теперь на их ноги – казалось, будто они на сцене и свет прожектора чуть-чуть сместился.
Кормление закончилось, Джеффри дал малышу конфету, и на мгновение в комнате наступила полная тишина. Луч солнца так и лежал у их ног, и Маргарет смотрела на ребенка, то ли забыв обо всем на свете, то ли думая, что никто за ней не наблюдает. Потом она подняла голову, и я скорее почувствовал, чем увидел, – я смотрел в сторону, – что ее взгляд переместился с ребенка на меня. Я повернул голову; она не отвела взгляда, но лицо ее вдруг затуманилось. Это продолжалось всего лишь секунду. Она вновь посмотрела на ребенка, потом взяла его за руку.