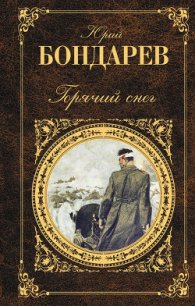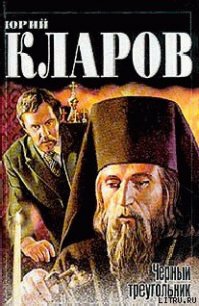Бермудский треугольник - Бондарев Юрий Васильевич (книги бесплатно без онлайн TXT) 📗
“Господи, спаси от твоих речей! О чем ты заговорил? Как ты мог сказать, Егор, что я пышно клянусь тебе в дружбе? И зачем ты приплел и Иуду, и Петра, и народ? Какие дикие параллели! Разве так можно не дорожить своим народом?”
“Вася, идеалист, бесценный мой друг, не тебя имел в виду, не распускай слюни! Народ потемнел, оглох и ослеп! Нам с тобой скоро уходить с белого света, и боюсь, лет этак через десять мои картины будут сжигать на кострах, как когда-то сжигали еретиков. Я думал только о нашем с тобой самоопределении, а вызвал твою ярость и обиду”.
“Лучший друг — очаровательный враг, не хватает еще этого уистлеровского остроумия. Позволь тебе заявить, Егорушка, ты не очень любишь импрессионизм, ни французский, ни наш, и ты хотел меня уязвить моей любовью к отсвету заката на крышах? А ведь ты сам, я отлично вижу, Егор, утверждаешь праздник прекрасного”.
“Вася, Вася, Вася, тпр-р, стой, осади на плитуар, без красивых слов! Ты незауряднейший русский импрессионист, я могу встать на колени и молиться перед твоими ощущениями, что для меня, дружище, целая философия! Я не назвал импрессионистов скопищем посредственностей, отнюдь не призываю к погрому! Я глаз не могу оторвать от некоторых твоих работ. Однако писать всю жизнь лес, травку, воду, полдень и закаты — это, прости, много сладости. Можно схлопотать крепчайший запор, придется ходить с клизьмой в кармане. У меня у самого, вон видишь, полмастерской этой кондитерской патоки: лето, зима, солнце, сугробы. А хочется хрена с горчицей”.
“Как это тебя прикажешь понимать, Егор? Уйти от красоты земной и перейти к этой самой борьбе со злом? К злободневности? Вперед на бой, к борьбе со тьмой?”
“Вася, не матерись! Кто сказал “вперед” и “тьма”? Борьба со злом, если оглоблей в лоб, — да это и значит ставить злу памятник. О зле и добре писали и ваяли великие, и все по-разному. “Сикстинская мадонна”, “Давид”, “Мона Лиза”. А наши мастера! Суриков, Нестеров, Коненков, Верещагин… перечислять дальше? У всех у них вечное, Васенька, нетленное, под небесами летящее и тайну мироздания несущее! А даже самый превосходный пейзаж, Господи, прости святотатство, ограничен, замкнут, в нем, не спорю, есть чувства, но чаще всего тесновато для мысли, если даже он изображает шут знает какую фантасмагорию! Есть сама правда и подражание правде… Это же не одно и то же. Все, все! Я замолкаю и буду молчать, как пень. По твоему лицу вижу: сейчас ты меня угрохаешь табуреткой!”
“Да, лучше помолчи, Егор, ты сегодня меня загоняешь в угол. И говоришь неприлично. Как будто слава уже одарила тебя бессмертием. Сползи с высоты, а то я скажу, что ты болен самонадеянностью, как Дали!”
Василий Ильич, будучи и терпеливым и обидчивым, при всей влюбленности в Демидова, преданности ему и восхищении им прощал по мягкости душевной многие слабости избалованному и невоздержанному другу. И это нахлынувшее воспоминание о том разговоре, обижающие слова, споры и недолгие размолвки, какие бывали между ними, теперь показались несказанным счастьем, чего никогда уже не будет. И от волнения он зашелся кашлем и, обессилев от сотрясавшего его недуга, остановился у дома Демидова, горбясь, слезы выступили на глаза, и жидко расплывались огни улицы, покачивались квадраты окон, когда он вошел в заросший тополями двор, который за много лет их верной дружбы стал родственным ему.
“Скоро помру, — подумал он с немощной ватностью в ногах. — Ослаб, сдал после смерти Егора… Да и незачем ползать по земле одному… в бессилии”.
В подъезде неуютно светила запыленная лампочка в сетке. Лифт почему-то не работал, мертво стоял между первым и вторым этажами, и Василий Ильич в страхе, что не дойдет до восьмого этажа, попробовал раза три нажать на кнопку, но механизм не отзывался.
Он начал подыматься по лестнице, хватаясь за перила, сердце зачастило, задохнулось на третьем этаже, он давился кашлем, отдыхал через каждые пять шагов, пережидал зыбкость в глазах, похожую на головокружение (“слабость, слабость…”). И, восстанавливая дыхание, долго сидел на подоконнике пятого этажа, с робкой улыбкой видя, как мимо, разговаривая, спускались по лестнице какие-то люди, искоса взглядывали на него, точно на пьяного.
На восьмом этаже Василий Ильич обеими руками вцепился в перила, упал на них грудью; со свистом заглатывая воздух, потом сполз на ступени, склонил к коленям голову и так посидел несколько минут, приходя в себя.
Ключ от мастерской был у него в кармане, на правах дружбы Демидов разрешил ему приходить в любой час дня и ночи, без предварительных телефонных звонков. Две одинаковые двери, обитые искусственной кожей, были рядом на лестничной площадке. В добрые старые времена министр культуры выделил знаменитому академику две большие квартиры, и одна была оборудована под мастерскую. Василий Ильич издавна устойчиво любил левую дверь, без номера, за которой чудодейственно открывалось царство бесценных владений Демидова, всегда обдававшее радостным возбуждением, каким-то обещанием бесконечной жизни и неотвратимой печалью ее скоротечности. Нет, он еще никак не мог согласиться с навечным отсутствием Демидова.
Василий Ильич сидел на холодной, как гробовая плита, ступеньке, силился отдышаться, умерить биение сердца и решал, что сперва не будет заходить к Андрею, а посидит один в мастерской, без сожаления думая, что и его земной срок близок.
Ему стоило напряжения встать, разогнуть ревматические колени, и, чтобы не покачнуться, он постоял, набираясь сил, и, елозившими пальцами опираясь на перила, двинулся шажками к двери мастерской. От усталости после подъема дрожала рука, но ключ наконец втиснулся в скважину, и послышался хрустящий звук замка.
Тяжелая дверь распахнулась и, еще не зажигая свет, первое, что почувствовал Василий Ильич, был дохнувший из темноты в потное лицо сквозняк беды, какого-то несчастья, с угрозой оттолкнувший его назад. Это был запах пепла и сладковато-едкой химической гари. Он нащупал выключатель, зажег свет. Посреди мастерской на картоне чудовищно чернела безобразная груда второпях изрезанных, искромсанных холстов, поломанных рам с продавленными картинами, зиявшими прожженными дырами, испачканных краской тряпок — кучей возвышался недогоревший костер, наваленный из сорванных со стен, угольно потемневших картин, потрескавшихся от огня пейзажей, истлевших портретов.
— Боже мой, Боже мой, что это такое? Что это такое? — вслух выговорил Василий Ильич, и от жаркой боли что-то сдвинулось в его голове. — Кто мог? — прошептал он. — Зачем? Боже мой…
Несмело, на ослабших ногах он вошел в мастерскую и сел на табурет, свесив руки между коленями.
Он боялся посмотреть на стены, на те места, где висели любимые им полотна, — из глубины мастерской тянуло сыростью, шуршащим безмолвием опасности, будто угрожающей обвалом.
Когда он поднял глаза, страшась увидеть сплошь обнаженные стены там, где вчера висели шедевры, то увидел на стенах и на полу прямоугольные и квадратные провалы рам, из которых чем-то острым были вырезаны украденные холсты. И Василий Ильич, пошатываясь, начал продвигаться вдоль стен, тупо глядя на пустоты, на оголенные рамы, до деталей помня исчезнувшие полотна, шепча их названия:
— Да, да. “Августовские звезды”, вот тут “Утренняя Москва”. Какая это была прелесть, какое соединение цвета… И рядом “Достоевский в ссылке”. И “Казнь Пугачева”. У него все висело вразброд. И вот тут “Баррикада”, “Октябрь 93 года”, “Распятая Россия”. Нет. Их нет. И “Катастрофы” нет. Егор был самоед, считал, что она не закончена…
Шторка, которой Демидов всякий раз закрывал новую или незаконченную картину, сорванная, валялась на заляпанном краской полу, изуродовано покосился подрамник, убогий без полотна, так поражавшего всех оглушающей тайной трагедии, печалью гибели мужчины и женщины на пустынной дороге в осенней ночи с глубиной ее черноты и кровавой щелью заката, с гигантским железным крабом на чудовищных колесах, как будто коварно и вкось приподнявшимся для убийства на дыбы, но уже тоже мертвым, что видно было в хилом угасавшем свете фар, готовых через секунду померкнуть, как глаза умирающего.