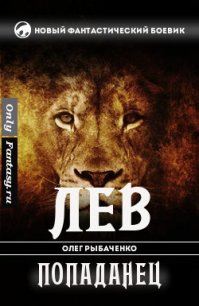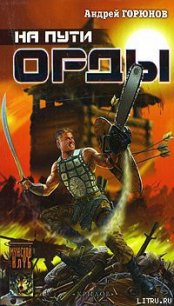Остров - Голованов Василий (лучшие книги без регистрации TXT) 📗
…Иван Пурпэй давно умер и похоронен на «Кладбище шаманов» на правом берегу Большой Паарчихи. Место это далеко отстоит от обычных захоронений, поскольку считалось, что шаманы, люди слишком большой силы, не могут покоиться рядом с обычными людьми. И хотя старое шаманское кладбище давно затянулось уже мхом и травой, место это до сих пор слывет заколдованным и оленевод, попав сюда, обязательно покрошит на землю хотя бы табаку, чтобы оно не закружило его и выпустило домой.
Бубен, иконы и старинную Библию Ивана с записанными в ней коленами ардеевского рода украли геологи в пору своего безраздельного хозяйничанья на острове, где до них всё это долгие годы хранилось вместе с хэхэ и разной хозяйственной утварью.
Запустелую часовенку на Шарке еще раньше, в годы войны, разорила какая-то «экспедиция». Что это за люди, теперь не выяснить, но известно, что было их человек пять, одна женщина. Все, кроме одного, странным образом погибли, все похоронены в одной могиле возле Бугрино. У них был катеришко. И вот, то ли решившись обсмотреть берег, то ли поджидая какой-то пароход с моря, они на нем подошли к Кошке и ночью, в отлив, стали на якорь в Промое. Якорный конец, видно, был у них короток, да все заснули… Приливом и перевернуло катерок…
Вот, собственно, и вся история богов на Колгуеве. Остается досказать самую малость. В краеведческом музее в Нарьян-Маре нам сказали, что в устье Губистой на Колгуеве сохранился последний ненецкий идол. Увидать его всяко было бы интересно, а уж теперь, когда мы оказались на Кривой и, значит, от идола километрах, самое большее, в семи, нельзя было уйти, не посмотрев. Благо, и погода наутро установилось превосходная. Раздуло все тучи и с моря открылась такая ослепительная, тёплая синева, что невольно душа затосковала по югу, по ласковому южному морю. Мы тронулись: сначала по-над берегом, по старой, разъезженной, местами уже сползшей вместе с торфом с обрыва вниз вездеходной колее. Потом нашли балку с пробивающимся вниз, на песчаный пляж из болота ручейком и решились спускаться к морю, но тут Алик как будто заслышал звук вертолета. И правда, скоро в ясном небе возникла быстро перемещающаяся над зеленой равниной точка, похожая на летящее насекомое, и вот уже несомненно – вертолёт… Он пролетел над нашим «бомжовником», как мы окрестили своё жилище, прицелился, завис – и сел рядом. Воистину скверно то время, когда от людей, впервые за четыре дня увиденных, не ожидаешь ничего хорошего. Сразу мелькнула мысль: черт с ними, с вещами, если украдут, но ведь у меня в рюкзаке дневник, отснятые плёнки! Шли мы уже минут сорок и мне с моим клацающим при каждом шаге коленом нечего было и думать быстро добежать обратно. Надо отдать должное Алику – в беге по болотистой местности он, несомненно, посрамил бы лучших спортсменов классической олимпийской школы. Вертолёт взмыл вверх из окружающей барак помойки не более, как через шесть минут после того, как сел – а Алик все-таки успел добежать до него и поговорить с пилотом. Борт оказался с Песчанки, пришёл сюда за ящиком антикомарина: геологи знали, что на пилораме много брошено всяких лекарств.
Мы шли тем временем. Чем дальше на север, тем берег выше и грандиознее обрывы, подступающие к морю. Под верхним слоем торфа, иногда двух– и трехметровыми даже козырьками нависающего над головой, таится черный, древний лед мерзлоты. Летнее тепло слегка подтаивает эту мерзлоту и весь берег начинает сочиться – но не водою даже, а потоками жидкой сизой, голубой или красной глины, вулканически извергающихся из тьмы земных глубин. Тема глины, столь актуальная на Колгуеве, здесь, возле этих обрывов, обретает величественное, почти симфоническое звучание: намывы, наплывы, потоки глины, керамические русла неподвижных, запекшихся рек, черные и розовые вспученности и складки, напоминающие поверхность остывающей лавы… Царство глины, стихия глины, непрерывное, не прекращающееся ни на минуту творение глиной форм, в которых только возможно её, глины, воплощение…
Глина, лёд, торф, чистый галечно-песчаный пляж, солнце, искрами играющее на морской поверхности, порывами налетающий ласковый ветер…
Где мы, любимая? И почему я не слышу ответа от тебя, посылая мысленные сигналы тебе в пространство? И почему не могу я оставить бренное тело мое с хрупающим коленом и устремиться к тебе на крыльях орла или ворона, чтобы донести до тебя восторг, необъяснимо переполняющий меня?
Идола мы быстро разыскали на холме с нашей стороны речной долины, осмотрели и измерили его. Высотой он был точно мне по межрёберную диафрагму (т. е. сантиметров 120—125), срублен недавно из сравнительно свежего еще, плотного, чуть взявшегося лишайником бревна, очень грубо. На голове, слегка затёсанной для предания ей видимости округлости, топором намечены были только глаза и рот. Старательно, но неумело выбрана шея. Намечены руки, ноги, чуть согнутые в коленях, что-то вроде поясного ремня…
Нет, традиционные ненецкие идолы выглядели все же иначе. Никакого ремня быть у них не могло, да и так вот вырубленной шеи… И кроме того, смотрел этот в бескрайний простор моря, на запад, как смотрел бы всякий оказавшийся на этом холме человек – но не на восток, как положено настоящему идолу. Да и не мог бы настоящий уцелеть на этом месте. Буквально в пятнадцати метрах от него – завалившийся на бок сарай с каким-то барахлом, чуть дальше – автоматический военный маяк, бездействующий. Но люди были здесь, много людей, всего лишь несколько лет назад – и, значит, у настоящего шансов уцелеть не было никаких. Когда люди теряют богов, они начинают бояться всего настоящего. А этого, поддельного, срубила и поставила над морем какая-нибудь уходящая с острова экспедиция. Может быть, от скуки, а может и из самых добрых побуждений, далёких от насмешки и кощунства: как ни на есть, а обозначить присутствие на этом берегу хоть какого-то божества, чтобы дыра, отворившаяся забвением богов, не зияла так страшно. Вот почему я крошу табак на плоский камень у подножия твоего, последний поддельный идол Колгуева… Я отдаю тебе свою веру в то, чего выразить не умею и благодарю тебя за такую возможность – в этом ты для меня настоящ и неподделен…
Все захотели сфотографироваться возле идола.
Толик, сев рядом, сунул ему в прорезь рта погасшую папироску.
Армейская шутка.
Школа. Интернат в Нарьян-Маре. Армия. Пекарня в Бугрино… Ничего с этим не поделаешь, как и с тем, что ученичество шамана продолжалось двадцать лет…
Небесный путь орла не зарос травой, он по-прежнему открыт для всех, просто никто не знает уже, что нужно сделать, чтобы взлететь…
Не то, чтобы я, как какой-нибудь свидетель Иеговы, приготовлялся сделать мрачное пророчество о приближающемся конце света. Я шел, хромая, берегом моря, отпустив Толика и Петьку далеко вперед, я вглядывался в фантастические изваяния природы на обрывах, наслаждался солнечным теплом и светом, будучи дальше, чем когда бы то ни было, от мрачных мыслей. Я шел, видел набегающие волны, камешки под ногами, узоры, напоминающие разветвленные дельты крошечных рек, которые талая вода, никогда не повторяясь в рисунке, прорезает у подошвы обрывов…
А что до конца света, то он давно наступил. Только мы этого не заметили… Я не о том хотел, не о мировом безумии. Безумие-то очевидно: все эти конвульсии, приступы насилия, истерическая рвота, святотатство, неконтролируемая слезливость или, напротив, бесстрастная самоуверенность, каменная невозмутимость… Я говорю о неизвестности. Потому что в ощущении конца времен есть также пространственное ощущение – края. За которым – неизвестно что, но что-то есть или будет обязательно. Неизвестность в том, как попасть, как заглянуть за край. Что там? Мы не знаем. Любовь или смерть? Не знаем. И не знаем пароля, по которому бы пропускали за. И вот, имеем то, что имеем: прошлое, умершее вместе с богами, безумное, лишенное смысла настоящее и будущее… Будущее надвигается, как стена страха, ибо мы все чувствуем, что всё изменится – но что и в какой момент, не знаем. И в чем спасение, что пойдет в зачет – тоже не знаем. Не знаем, почему необходим какой-то выбор, и до какой поры не поздно будет сделать его, этот проклятый неизвестный выбор.