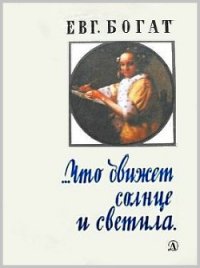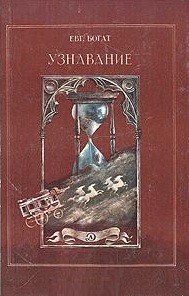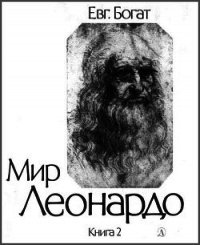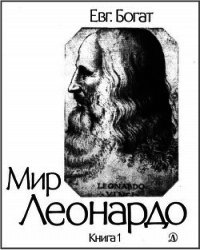Ахилл и черепаха - Богат Евгений Михайлович (читать книги онлайн полностью без регистрации .txt) 📗
Портрет Андриана — да это же само понимание! Понимание, купленное той же дорогой ценой, что и познание истины фанатиком Менассе. Он уже стар, Андриан; он отдыхает, думает, руки на коленях, голова чуть наклонена. Кто это говорил: при печали лица сердце делается лучше? Кажется, кто-то у Шекспира. У Андриана именно та печаль лица, при которой делается сердце лучше. Он понял Рембрандта. Но самое существенное в портрете даже не это — бесконечно важно, что Рембрандт никогда, ни на минуту не переставал понимать Андриана, понимать в нем даже то, чего, видно, не понимал в себе и сам Андриан.
Рембрандт показывает человека в наивысший момент его опыта жизни, когда тот начинает осознавать, что в мире есть нечто более реальное, чем то, что составляло раньше суть его существования. Это, разумеется, нельзя понимать наивно-натуралистически. Речь идет о ценностях духовных, о жизни человеческого духа как особой, ни на что не похожей реальности. Рембрандт показывает эту особую реальность с той явственностью (почти осязаемо телесной!), с какой его великие собратья по кисти показывают деревья, человеческое тело, море, берега рек, облака. Он не выдумывал людей, он видел в них эту реальность (даже иногда нерожденную) и умел ее делать видимой миру.
Перед полотнами больших художников, особенно Ван-Дейка и Гейнсборо, часто испытываешь странное чувство: не веришь, что давно умерли эти нежные, почти неземные женщины, которых они писали, эти юные, по-детски беззащитные мужчины, а когда понимаешь, что они не могли не умереть, хочется их воскресить.
Перед портретами Рембрандта никогда не рождается желания воскресить. Потому, видимо, что не рождается и естественнейшей мысли о том, что эти мужчины, женщины и старики умерли. Воспринимаешь их как бессмертных, ибо бессмертна реальность, которую показал нам художник.
Рембрандт, как и любой живописец, был стихийным материалистом и, конечно же, не понимал дух как объективную субстанцию. Для него он был не отвлеченной метафизической категорией, а человеческой жизнью, человеческим опытом, человеческой судьбой. Духовное было для него не чем-то отвлеченным, а кислородом, которым дышало его сердце. Поэтому, наверное, и кажется, когда подходишь к созданному им, что он изобразил на этом портрете тебя. Ведь то, что совершается в духовном мире человека, совершается и со мной.
Теперь в зале Рембрандта я больше размышлял, чем рассматривал полотна, садился перед особо любимой — в те или иные дни — картиной, думал, записывал. Иногда оказывалось, что утром к моему появлению стул уже стоял там, где я хотел бы сесть. Поначалу я объяснял это тем, что его, наверное, с вечера и не отодвигали, но однажды я твердо запомнил, что вечером сидел перед полотном, изображавшим падение Амана, а наутро «мой» стул — удобный, старинный, когда-то, видимо, музейно неприкосновенный — стоял у «Пожилого мужчины», к которому я и направился, думая о нем по пути в Эрмитаж. Мимолетно удивившись этому обстоятельству, я тотчас же о нем, конечно, забыл. А через несколько дней, опять кстати, нашел «мой» стул не на том месте, где оставил вечером. И опять, рассеянно удивившись, забыл тотчас об этом. Потом, помню, у меня мелькнула ироническая мысль о телекинезе, когда стало ясно, что стул в мое отсутствие ночью путешествует по залу, ожидая меня утром именно там, где я хочу его найти. Углубиться в это соображение у меня не было ни желания, ни времени: я был полностью захвачен тогда мыслью о том, что Рембрандт изображал на лучших полотнах этого человека плюс человечество, конкретную духовную жизнь плюс духовную жизнь мира — от первых наскальных рисунков в пещерах до одухотворения мироздания воскрешенными поколениями. В эту мысль я и углублялся, переходя от картины к картине и заставая ежеутренне «мой» стул в том именно месте, которое должно было сегодня питать мою мысль новыми наблюдениями.
Но однажды, когда я в первые же после открытия Эрмитажа минуты направился к «Пожилому мужчине» (меня опять мучила тайна этого портрета), я издали с наивным удивлением не обнаружил перед ним «моего» стула, а, подойдя, увидел — уже с искренним изумлением, — что и сама картина отсутствует, на ее месте висела унылая, исписанная лиловыми чернилами бумага. Я тупо уставился в нее, почему-то начисто забыв в ту минуту, что картина не мемориальная доска, ее могут и унести к реставраторам и послать куда-то на выставку.
Очнулся я, когда услышал рядом:
— Ее вернут дней через десять. Может, даже через неделю. Понимаете, научная работа…
Я повернул голову: она, женщина, обыкновенно покоившаяся на жестком, далеко не музейном стуле в углу, с истертой подошвами подставкой для ног, страж полотен.
Был мартовский день с солнцем, снегом, — облаками. Весеннее утро над Невой, распахнутые дали ударили в царственные окна Эрмитажа, затмевая самосветящиеся полотна. Женщина подошла поспешно к окну, затемнила его желтым, тяжким от солнца шелком, потом вернулась ко мне, поправила на стене передо мной косо висевшую унылую бумагу: документ о местонахождении «Пожилого мужчины».
— Может быть, — начала несмело, — посидите сегодня у «Женщины с серьгами», ее тоже дня через три заберут, — и родственно улыбнулась. — Там и стул ваш…
Я увидел, что ей за шестьдесят, пожалуй, далеко уже за шестьдесят, и мало, должно быть, досталось ей в жизни сидеть, ничего не делая, или ходить по земле в удовольствие, без тяжестей; особая суровая согбенность, которая не ощущалась, когда она сидела понуро в углу, сейчас стала явственной и не сочеталась с уютом лица, по-домашнему доброго, в бабушкиных морщинах.
— Вы переставляли стул? — задал я ненужный вопрос.
Она тихо рассмеялась:
— Я уже заприметила: если три дня сидите перед «Аманом», на четвертый — к «Пожилому мужчине». — И добавила серьезно: — День ведь долгий. Сидишь и видишь, что надо и чего не надо… Вот и вас наблюдала, наблюдала, аж надоело! Извините старуху… Даже, — насмешливо понизила голос, — домой вернешься, будто вы ходите передо мной.
— Послезавтра, наверное, уеду, — ответил, чтобы хоть что-то ответить.
— Не дождетесь? — опечалилась, посмотрев на пустую стену. — А вы отложите, может, они и через четыре дня вернут, бывает. Вот и с «Давидом и Ионафаном» было, его тогда называли иначе — «Давид и Авессалом»; берем, говорили, на три месяца, а уже через две недели…
— И часто меняют названия картин?
Мне не хотелось, чтобы она уходила.
— Меняют! — подтвердила она с охотой. — Вот, та, у которой сидели вы раньше, теперь не «Падение Амана», как когда-то, а «Давид и Урий». Библейских-то имен не сосчитаешь! Вот и играют… — В голосе ее не было ни осуждения, ни иронии, будто говорила она о детях. — Но мне, — сообщила с доброй доверчивостью, — нет дела до новых имен. Человек-то, он тот же, хоть Урием его, хоть Аманом назови… Нам с ним от этого ни холодно ни жарко. Вот и о Данае кто заявляет — Вирсавия… Это, — пояснила, — жена Урия, которую полюбил Давид. Кто… — махнула рукой, рассмеялась. — А она сама-то небось от радости и не помнит, как ее зовут. И вашего пожилого теперь, может, нарекут по-библейски. Нет им, должно быть, покоя, что без имени остался. Кому уже в третий раз меняют, а ему и первого не дали. Но я-то называть его буду по-старому…
— «Пожилым мужчиной»?
— Нет!.. — Она растерялась, даже покраснела, будто сорвалось с ее губ что-то нескромное, о чем нельзя и полусловом поведать человеку малознакомому.
— Нет? — удивился я невольно ее растерянности.
Она, улыбаясь, подняла ко мне лицо.
И я забыл о бессмертных самосветящихся полотнах, забыл о Рембрандте и об Эрмитаже, я видел ее лицо, чувствуя, что нет для меня в эту минуту ничего в мире важнее его. Жила в этом лице человеческая судьба, обыкновенная и странная: с детьми, трудом, войной, надеждами, похоронами, нерастраченным сердцем, одиночеством, усталостью и тоской по работе… Я увидел ее жизнь, понял и то, чем она была, и то, чем она не стала. И вот в ту минуту, когда я, казалось бы, совершенно забыл о Рембрандте, он и дал мне великий урок. Я не побоялся бы, пожалуй, выразить его суть несколько банально, написав: нет в мире ничего важнее человека, который перед тобой. Но от этой будто бы безошибочной формулы меня отталкивает ее неточность. Дело тут не в важности, а в чем-то более существенном. Понимание человека, пульсирующее уже в самом первоначальном восприятии его, должно быть воскрешением самого лучшего, что было и что могло быть в его судьбе. Понимание, едва родившись, уже должно быть творчеством. Сознания важности мало, ибо оно возможно и при пассивном отношении…