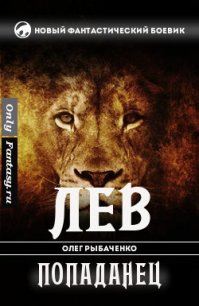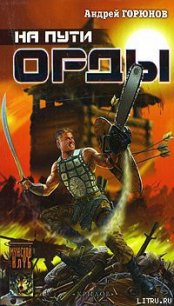Остров - Голованов Василий (лучшие книги без регистрации TXT) 📗
При помощи фотоаппарата я пытался запечатлеть эти следы, эти удары кисти творящего. Не скажу, чтобы эти попытки были тщетны – но они были соразмерны времени нашего присутствия на этом берегу и времени вечности, которое песок, как раз, символизировал наилучшим образом. Может быть именно песок больше всего и потряс меня в этот день. Песок, таб. Двоякая возможность песка быть мерой времени и метафорой вечности. Ибо кажется очевидным, с одной стороны, что сколько бы ни было песчинок, их число конечно и, следовательно, существует само это число, возможность его выразить и измерить – на этом основан принцип действия всех песочных часов. А в то же самое время ясно, что сколько бы мы не пересчитывали песчинки, какие бы грандиозные пирамиды не создавали, пытаясь исчерпать пустынную потенцию песка и подвергнуть его учету – его, песка, все равно окажется больше, чем наших усилий; и то, что мы соберем, мы никогда не удержим, ветер развеет наши замыслы, нам не сыскать числа. Ибо нам дозволено исчислять время, но не дано измерить вечность.
Но если речь идет о долях секунды – то, пожалуй. Несколько кадров при выдержке 1/60 и 1/125. Несколько крошечных береговых фрагментов космического паззла всех песков всех пустынь всех каньонов всех берегов и нагорий.
Через три года в Париже я попал на открытие фотовыставки Мари-Клод Уайт: на обложке приглашения была запечатлена серая клубящаяся вселенная с вкраплениями светящихся частиц. Мари-Клод вглядывается очень пристально, находит галактики, слои, тяжелые массы, легкие линии, росчерки волн на морском берегу. Если всматриваться еще пристальнее, если, например, в микроскоп разглядывать черный вулканический песок тихоокеанского побережья Камчатки, можешь угодить в сокровищницу, откуда уже нет возврата. Завороженный сокрытыми в черноте песчинок радужными огнями, рискуешь позабыть главное – огромность песка, тяжесть песка, неумолимое неподъемное движенье песка, завыванье песка, его сиротство.
О, пески бесконечных северных побережий – пустыни пустынь! Лишь острый мартовский снег сравнится с вами в умении шлифовать дерево и выбеливать кости!
Пожалуй, я провалился в род медитации, шагая берегом моря: во всяком случае, счет времени я потерял. День показался мне очень коротким. Почему-то кажется, что в два или в три часа мы вернулись, но Петька в своем дневнике отмечает, что было уже пять или шесть. По счастью, к нашему возвращению Алик сварил котелок свежего гусиного супа и сидел возле костерка на песке, чертя что-то палочкой. Еще одного гуся, подбитого камнем на обрыве, Толик принес с собой и мы уже рассчитывали, что вот, сейчас поедим, а потом поедим еще раз, и по-колгуевски завалимся спать, и будем спать, переполненные жратвой, в животном покое, только волны будут шуметь под обрывом, раскачивая наш сон, как колыбель.
Так оно, отчасти и произошло: мы наелись от души, и, почувствовав приятную сонливость, Петька сразу после обеда отправился на боковую. Я же, вызвавшись вымыть посуду, остался возле костерка. Перед этим сфотографировал все-таки убогое наше прибежище. Видны портянки, проветривающиеся на колышках, шалашик, прикрывающий от ветра огонь. Настраиваясь на отдых, я тер травой жирные тарелки. Вдруг Алик, сидевший рядом, сказал:
– Пойдем, наверное, сегодня. В ночь.
Я некоторое время тер посуду, пытаясь понять, что побуждает его к такому решению. Вряд ли ему просто наскучило здесь – но никакого другого объяснения в голову не приходило.
– Почему? – тогда спросил я Алика.
Он ответил, что луна сильно убыла, а при смене лун, в межлунье, погода обязательно испортится. Поскольку нам идти еще дней пять, лучше встретить непогоду в каком-нибудь добротном балке, и раз уж мы решили добраться до Кривого озера, то и надо идти туда.
Погода, вроде бы, стояла отменная, но я с некоторых пор к словам Алика склонен был прислушиваться: он наверняка знал то, что было мне не очевидно или вовсе казалось не так. Я заметил, что все, что он говорит, сбывается. «Межлунье», «погода испортится» – для меня в этом никакой взаимной зависимости не было, но он говорил об этом, как о вещах, само собой разумеющихся.
– С твоей ногой мы хоть сколько-то пройдем за ночь…
– Да, сколько-то пройдем…
Нога сильно болела, я понимал, что становлюсь обузой для своих спутников и раз уж по моей вине темп нашего движения замедлился, мне следовало безропотно принять соображения более опытного человека.
Петька, проснувшись, был очень недоволен тем, что надо готовиться к выступлению.
Сама мысль идти ночью казалась ему абсурдной, к тому же он хотел… Ну, наверно, хотел отъесться и отоспаться немножко. Но может быть, ты хотел провести еще один вечер на берегу, еще один вечер, полный покоя?
К тебе обращаюсь я, друг мой Петр: а к кому обращаюсь я? К тому юноше, которого знал когда-то? Или к тому молодому человеку, которого практически не знаю? Ибо все меняется слишком быстро. Может быть, нашим жизням вообще суждено было пересечься лишь однажды, для того, чтобы я мог заварить подходящей густоты словесное варево, а ты – начать собственный путь?
Может быть, может быть.
Люди редко удерживаются вместе надолго, разве что ставят перед собой цели столь отдаленные, что достигнуть их можно, только пройдя вместе всю дистанцию… Но хочешь, я прочитаю тебе несколько строк из твоего дневника? Поверишь ли, что это написал ты, а не другой кто-то? Может быть, вместе мы и вспомним ту ночь, может быть, мы даже различим отдаленные последствия этой ночи в том, что происходит с нами теперь?
«…Решили идти ночью. Хорошо поужинали сначала супом, потом гусем…» Все точно. Именно с этого и началось. Суп, как я говорил, сварил еще Алик, а гуся, которого Толик подбил на берегу, мы решили приготовить поизысканнее, и Толик сказал, что сделает филе. В бомжовнике он нашел форму для выпечки хлеба, напоминающую форму для производства кирпича, песком отодрал ее от грязи, и в результате получилась великолепная чугунная посуда для тушения птицы, которой мы и воспользовались. Филе гуся после гусиного супа не очень-то, как может показаться, полезет в глотку – но мясо, действительно, было такое вкусное, что мы подъели все до последнего кусочка. К тому же, нам предстоял неблизкий путь. Тогда же я заметил, как Толик, собрав ложкой растопленный гусиный жир, спокойно хлебает его.
– Ты что это делаешь? – изумился я, представив реакцию собственного кишечника на такую процедуру.
– Жир ем, – Толик понял, что я чем-то удивлен, но причина этого удивления была ему непонятна.
– Ну ты даешь… – настаивал я на уместности собственного удивления.
Толик поднял на меня глаза: в них не было укоризны, скорее какое-то извинительное выражение, что ничем не может помочь мне в моем удивлении…
Быстро и тщательно Алик с Толиком приторочили к своим рюкзакам то, что удалось им насобирать за эти дни на берегу и возле «бомжовника»: кусок пробки, моток капроновой веревки длиной метров пятнадцать, кое-какие таблетки из числа найденных на полу комнаты, послужившей нам убежищем и ярко-красный метеорологический зонд, похожий на большой надувной шар – несомненно, ценную находку, потому что ненцы подобные используют как поплавки для сетей и для изготовления плотов (тогда таких зондов нужно несколько), чтобы весной переправляться через разлившиеся реки. Кусок толстой прорезиненной ткани содрали со стены бомжовника прямо перед уходом.
Ощущение, что это шкура огромного мертвого животного.
Мы тоже оторвали свой кусок от этого истерзанного тела.
Костяк оголялся.
Кости мертвой страны разбросаны на пронизанных ветром пространствах Севера.
Трупоеды усердны, как ни одно другое сообщество, ибо то, чем они питаются, больше не прирастает. Их пиршество торопливо, но безрадостно. Смерть кормит их. Когда через три года я приехал на Колгуев, средь развалин, оставшихся в дальних концах острова, невозможно было обнаружить уже ровным счетом ничего, кроме ржавого железа да старого дерева – они были выедены дочиста. Да и само Бугрино выглядело как севший на мель корабль, по палубе которого бродят растерянные пассажиры, которым не хватило места в шлюпках, да матросы, оставшиеся дожидаться помощи в надежде, что запасов горючего и продовольствия хватит до того времени, когда им на выручку подоспеют люди.