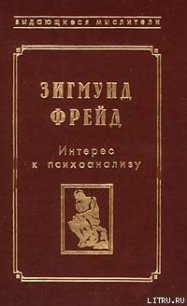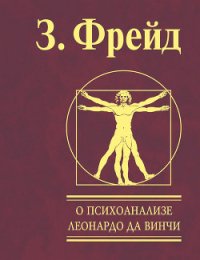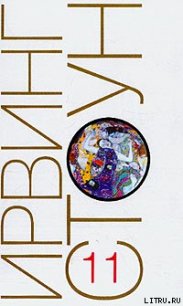Белый отель - Томас Дональд Майкл (электронные книги бесплатно txt) 📗
Итак, Мориак не сказал ничего. Что ж, может быть, в какой-то мере ответом этому «еврейскому мальчику» послужит роман «Белый отель», где вечность жива, даже если нет Иисуса.
Вообще говоря, уже первая часть романа, «Дон Жуан», прочитанная не как «неуклюжие вирши, порнографические и лишенные всякого смысла», но как произведение, которое «могло бы научить нас очень многому, если бы мы только были в состоянии все в нем правильно истолковать», содержит все основные идеи «Белого отеля» – да и не только «Белого отеля»; кажется, все наше столетие со всеми его катаклизмами, кошмарами, жертвами, похотью и любовью вместилось в этот «документ» – так в русских сказках скатывают целое царство в яичко.
Все остальное – как концентрические круги (или витки спирали), помогающие именно правильному истолкованию центра. В этом смысле роман оказывается удивительно цельным – наподобие описанного в нем неба, превратившегося на закате в розу, которая «была совершенно неподвижной, но все же казалось, что она по спирали ввинчивается внутрь себя». Первые две части романа, фантасмагорические и проникнутые сновидческой логикой, – точнее, видимым отсутствием логики как таковой – только внешне разнятся от прозрачной повествовательное остальных частей; внимательный читатель не сможет не заметить точек соприкосновения, повторяющихся эпизодов, сквозных мотивов: уже упомянутый поезд, отель в горах, звездное небо... Реальность нет-нет да и подернется рябью галлюцинации – или томительным ощущением deja vu. Даже названия «объективных» частей романа повторяют ключевые моменты исходной фантазии Лизы Морозовой: «Санаторий», «Спальный вагон», «Лагерь». При всем этом роман, создающий вневременное пространство, с самого начала предельно привязан к историческому контексту эпохи: беспорядки в Одессе, петербургские анархисты, нетопленая и голодная Вена, предчувствие грядущей всемирной катастрофы, оккупированный Киев, ужас Бабьего Яра – весь хаос, вся пена XX века обозначены четко и зримо.
В столкновении временной конкретики и ощущения вечности и рождается философский заряд «Белого отеля», который в этом плане представляет собой попытку ответа на извечный вопрос, прямо поставленный Лизой Морозовой в письме Фрейду: «Жизнь – это добро или зло?» Символическим выражением этого вопроса в романе стала сцена, изображающая сестер-близнецов, у одной из которых было искаженное мукой, испуганное выражение лица, а у другой – умиротворенное и улыбающееся. В то же время «гримаса была полна радости, а улыбка – печали». Медуза, отраженная как Церера; совокупление добра и зла для сотворения мира; битва Эроса и Танатоса – казалось бы, Томас остается верен фрейдовской диалектике, однако на самом деле ответ его в итоге звучит, на мой взгляд, достаточно однозначно и романтично: «там, где есть любовь, есть надежда на спасение».
К этому выводу Томас приходит путем «доказательства от противного»: уже эпиграф из Йейтса взят им как постулат, требующий опровержения. «Сердце вскормлено хлебом фантазий», – говорит Йейтс, но правильнее было бы сказать: «иллюзий». Вкус насилия притягательнее «пресной любви» лишь в том случае, если на веру принята иллюзия – возможности ли насильственно осчастливить человечество, национального ли превосходства или необходимости установления «нового порядка». Эти иллюзии, воспринятые обществом, в свою очередь, порождают новую иллюзию – или, по выражению Томаса, «миф» – инстинкт смерти, свойственный отдельному человеку и всему человечеству. Ведь, согласно сюжету романа, именно случай Лизы Морозовой заставляет Фрейда вернуться к мыслям своей тогда еще не оконченной работы «По ту сторону принципа удовольствия», в которой он впервые сформулировал выводы об этом инстинкте. Однако развитие сюжета неумолимо приводит к опровержению умозрительных построений Фрейда. Лиза, страдающая разрушительными галлюцинациями и, казалось бы, безукоризненно воплощающая идеи Фрейда, на самом деле не испытывает никакой тяги к гибели – напротив, обладая способностью воспринимать то, что мы условимся называть «внебиологическим временем», а попросту говоря, даром предвидения, она безмерно страшится того, что, как она подсознательно знает, с нею произойдет. Отсюда и проистекают ее боли и галлюцинации, точно так же, как нежелание иметь детей обусловлено предчувствием несчастий, которые их ожидают.
Намеренно или нет, но Томас сталкивает свою идею с ее наиболее явным и аргументированным опровержением, и она, согласно художественной логике романа, выходит победительницей.
Получилось так, что, взявшись за перевод «Белого отеля», я оказался в том же положении, что и большинство тех, кто впервые прочтет его по-русски: имя Д. М. Томаса было мне совершенно незнакомо. И вот, по иронии судьбы, уже закончив работу, в «Иностранной литературе» (1990, № 9) наткнулся на статью Е. Клепиковой «Плагиат: преступление без наказания». В этой статье Д. М. Томас характеризуется как изощренный плагиатор – на том основании, что в пятой части «Белого отеля» для воссоздания атмосферы оккупированного гитлеровцами Киева и расстрела евреев в Бабьем Яру он опирался на материалы «Бабьего Яра» Анатолия Кузнецова. Как ни парадоксально это звучит, но особое возмущение у Клепиковой вызвал тот факт, что автор не только не скрывает использования этих материалов, но и выражает признательность за таковое использование... Не будем сейчас вдаваться в дискуссию о природе плагиата, о допустимых пределах «заимствований» из чужих текстов; напомним лишь слова Эйзенштейна, говорившего о том, что художественный смысл порождают не только кадры фильма как таковые, но и последовательность их стыковки между собой (и кстати, раз уж речь зашла о кадрах: во многих художественных картинах широко используется кинохроника – почему же это еще не привлекло внимания ловцов «плагиаторов»?!). В романе «Арарат» сам Д. М. Томас устами своего героя говорит совершенно недвусмысленно: «Просто-напросто все искусство представляет собой сотворчество, перевод, если угодно. Но плагиат – это совсем другое».
Произведение искусства рассматривается как нечто «отдельно взятое», и цельность его определяется тем, объединены ли все его компоненты внутренней художественной логикой, если не сказать – гармонией. В какой мере это относится к роману «Белый отель», мы уже говорили выше.
Очень важно правильно понять значение последней части романа, изображающей некое запредельное бытие, в котором, однако, много примет того, что уже знакомо по гастайнскому дневнику: поезд, остановившийся на затерянном в пустыне полустанке, черная кошка, чудом отыскавшая хозяев... Здесь Лиза встречает погибшую при пожаре мать, говорит по телефону с умершим отцом; это место вне времени – и необходимость его изображения продиктована всем предыдущим развитием внутреннего («подводного») сюжета романа. Круг замыкается; именно в этой части происходит синтез между тезой («любовь Божия... простирается сплошным целым, без стыков и швов, пронизывая все, что Он создал») и антитезой (все катастрофы, преступления, гекатомбы XX века, так или иначе затронутые в романе). Это как бы квинтэссенция тех мыслей и образов, которые во множестве разбросаны по тексту «Белого отеля», тем или иным образом касаясь понятия непрерывного, единого времени.
Необходимо отметить еще одну деталь, возможно, спорную. В «Прологе» говорится о том, что где-то на севере Германии были найдены останки доисторических людей, то ли утонувших, то ли захороненных в торфяных болотах и сохранившихся благодаря содержавшейся там гуминовой кислоте. Эпизод, казалось бы, совершенно необязательный, однако он обретает совершенно новый смысл, когда речь заходит о посмертной судьбе жертв Бабьего Яра: «Устье оврага перегородили дамбой и закачали туда насосами воду и грязь из соседних карьеров, создав зеленое, стоячее и зловонное озеро. Дамбу прорвало, огромную часть Киева затопило грязью. Застывших в предсмертных позах, как в Помпее, людей продолжали выкапывать и двумя годами позже». Еще один круг замыкается; идея «закольцованного» времени получает еще одно воплощение.