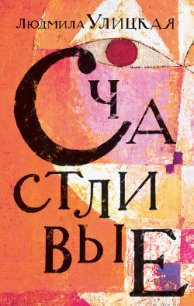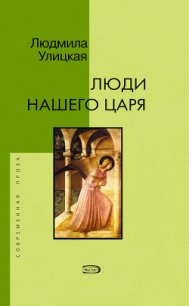Казус Кукоцкого - Улицкая Людмила Евгеньевна (книги читать бесплатно без регистрации .TXT) 📗
В этом, наверное, и заключается прелесть спорта – догадалась она, подтягиваясь на верхнюю площадку. Здесь было светлее, и противоположный берег не казался отсюда таким уж мутным...
По кривой скользкой трубе Профессор добрался до скошенной тумбы и сел на нее. Два ржавых рельса висели в воздухе правее, метрах в двух, но прыгать туда он не решался. Он мрачно сидел, напряженно пытаясь понять, как же его угораздило попасть в это нелепое, совершенно фантастическое положение. Ветер дул откуда-то снизу, тумбу качало, все обволакивал гнусный, влажный и душный холод.
«Может быть, все-таки сон?» – в который уже раз вернулся Профессор к этой спасительной мысли. Провел кончиками пальцев по собственному лицу, по голове. Языком тронул десны – зубных протезов не было! Как это он раньше не заметил? Куда могли деться прекрасные зубные протезы, изготовленные в стоматологической лаборатории Четвертого управления?
Он сидел в странном и неудобном положении, в своем лучшем костюме со знаками отличия, но без единого документа, и зубные протезы потерял. Или кто-то вынул их у него изо рта? Ужасно... Ужасно...
«Неужели я умер?» – вертлявый его ум, старательно бегающий от этого слова, уперся в него с разбегу...
В тусклом тумане, левее Профессора, мелькнула знакомая лысина.
– Послушайте! Уважаемый! – закричал Профессор, и Бритоголовый немедленно двинулся в его сторону.
– Теперь надо собраться с силами и, не торопясь... – начал было Бритоголовый всегдашним своим вкрадчивым голосом, но Профессор, схватив его за рукав белой рубахи, завопил:
– Скажите наконец, я что – умер?
Бритоголовый долгим взглядом уперся в съежившегося Профессора и сказал то самое, чего не хотел услышать от него Профессор:
– Да, Профессор. Не могу от вас более скрывать: вы умерли.
Профессор содрогнулся, ощутил жгучую, такую знакомую по сердечным приступам пустоту в груди. Руки и ноги похолодели. Все эти ощущения были явными знаками жизни, и это его успокоило, он засмеялся, приложив руку к области сердца:
– Вы шутите. А я вот действительно могу умереть от подобных сообщений!
– Никаких шуток. Но если вам приятнее другая формулировка, можете считать, что земная жизнь окончена.
– Таким образом, я в аду? – Профессор заерзал на тумбе. – Имейте в виду, я ни во что такое... не верю!
– Да я, собственно, тоже ни в какой ад не верю. Но на время вам придется смириться с существующим положением вещей. И сейчас очень важно, чтобы мы переправились на тот берег...
Бритоголовый сделал два крупных шага в сторону ржавых рельсов, легонько толкнул их ногой, и они медленно переместились вплотную к тумбе. После чего Бритоголовый пошел прочь.
Профессор ошеломленно замолк – дело было в том, что Бритоголовый шел своими широкими ступнями в холщовых бахилах прямо по воздуху. Он ставил ноги твердо и прочно и казалось, что белесый туман чуть прогибается под ним, а сам он покачивается, как циркач, идущий по слабо натянутому канату. А может, там и был канат?
Профессор с опаской ступил на зыбкие рельсы...
А Длинноволосый все качался и качался, и некуда ему было перебраться – до ближайшей площадки метров десять. В движении труб, на которых он стоял, был какой-то сложный ритмический рисунок, но уловить его он никак не мог, несмотря на всю чуткость музыкального уха. Он знал почему-то, что сможет управлять движением, как только поймет числовую формулу. Он вслушивался ступнями, берцовыми и бедренными костями, тридцатью двумя позвонками – проводниками, и резонатором черепа. Что-то улавливал... почти политемпия... наложение... Есть пять к трем... Определенно есть. Тело отозвалось, настроилось. Он попал в ритм и, попав, почувствовал, что качели под его ногами стали до какой-то степени управляемыми. Амплитуда движения вдоль оси возрастала. Но движение это было направлено параллельно ближайшей площадке и никак его к ней не приближало. К тому же мешал второй ритм, все более узнаваемый... Попал: семь восьмых! И тут же появилась вторая ось движения...
Его сильно качнуло – он едва не выронил футляр. Удержал. Прижал к груди. Погладил. Холщовая рукавица мешала хорошему прикосновению, ему захотелось снять ее. Раскачиваясь по нервной ломаной траектории, он пытался развязать тесемки на левой руке. Узел был крепкий и запутанный, он вцепился в него зубами... И почувствовал неожиданную помощь прямо из воздуха. Так и есть. Вокруг него снова вился знакомый смерч, но теперь в нем ощущались пальцы, губы, даже женские распущенные волосы, завивающиеся под собственным ветром. Воздушная эта воронка изнутри оказалась женщиной.
Узел ослаб, развязался. Длинноволосый опустил левую руку вниз, сбросил рукавицу и почувствовал, что и на правой узел ослаб.
– Скорее же, раскрывай, раскрывай, – пел живой жгут одушевленного воздуха. Он был теплый, даже горячий, ластился, ласкал, приникал, торопил...
Движение само собой выправлялось, определялось и мало-помалу приближало его к площадке. Длинноволосый нажал на скобу, замок щелкнул, вихрь вытянул из футляра чудесную вещь и сунул в руки Длинноволосому:
– Играй же...
В руках его был инструмент. Инструмент для... С помощью которого... Это было самое важное для него, но он не знал, как... Правая рука сама легла куда надо: пальцы пришлись по месту, узнали клапы. Левая искала... Но дальше – одно глубокое мучительное недоумение.
Горячие пальцы пробежали по шее, по подбородку, тронули губы:
– Ну играй же, пожалуйста. Еще можно вернуться.
К его губам приник деревянный мундштук...
А качели все носили его туда-сюда, и ритм их движения пронизывал тело и настойчиво требовал соучастия. Полного соучастия. Он набрал воздуха через нос, до отказу подняв диафрагму – полные легкие.
Смерч замер, завис. Длинноволосый сжимал губами деревянный мундштук – это было обещание наслаждения, но уже и самая тонкая его часть. Нижняя губа приникла к деревянному стеблю, язык тронул пластмассовую трость. Все вместе это было как недостающая часть его тела, собственного органа, с которым он был разлучен. Его распирало изнутри – он должен был наполнить собой, своим дыханием это диковинное создание из металла и дерева, принадлежащее ему в той же мере, что легкие, гортань и губы... И он выдохнул – осторожно, чтобы не спугнуть возникающее чудо... Звук был и музыкой, и осмысленным словом, и живым голосом одновременно. От этого звука сладко заныло в середине костей, словно костный мозг радостно отзывался...
Бедный человек, голова – два уха! Молоточек – наковальня... Стремечко – уздечка... Улитка о трех витках, среднее ухо, забитое серными пробками, и евстахиева труба с чешуей отмершей кожи внутри... Десять корявых пальцев и грубый насос легких... Какая там музыка! Тень тени... Подобие подобия... Намек, повисающий в темноте...
Самые чуткие смазывают слезу, распластанную по нижнему веку... Тоска по музыке... Страдания по музыке...
Бог и господь, явися нам! Явился. И стоит за непроницаемой стеной нашей земной музыки...
Профессор услышал – и заплакал. Рассеялись последние надежды: он действительно умер – на земле такого не бывает. Он всегда гордился хорошим слухом, пел под гитару верным голосом, мог и на аккордеоне подобрать, хоть и неученый, и даже оболтусу-сыну передались от него музыкальные способности... Но теперь это была другая музыка. Она говорила отчетливо и внятно о бессмысленности и необходимости красоты и сама была красотой – непререкаемой, ниспосланной, беспечной, ни к чему не пригодной – как птичье перо, мыльный пузырь или собранное из бархатных лепестков лиловое лицо анютиных глазок... И еще говорила такое, от чего Профессору делалось мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы... Нет, не так, это кто-то другой говорил: Профессору делалось мучительно стыдно за всего себя, от рождения до смерти, с ног до головы, с утра до вечера...
И всякое движение, карабканье, цеплянье остановилось. Все затихли, замерли. Даже маленькие существа, хлопочущие на дне провала над распластанным Манекеном, подняли свои глазастые головки и заслушались...