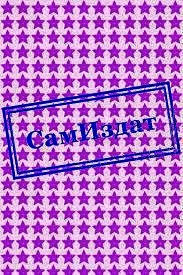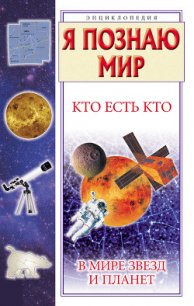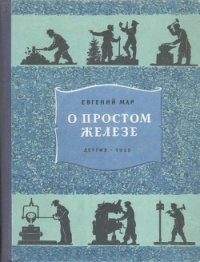Из чего только сделаны мальчики. Из чего только сделаны девочки (антология) - Фрай Макс
И тут оказалось, сестричка его приезжает. Так вот с бухты-барахты телеграмму – «встречай, еду». Они ведь не виделись с ее замужества, и писать-то она ему перестала…
Ждал он ее очень. Вот это мне странным показалось, конечно. То ни ответа, ни привета, а то каждый день – «послезавтра приедет», «завтра приедет». Весь дом отчистил, у него там диван был, весь книжками заваленный – разобрал, покрывало новое постелил, подушку у меня взял. Мы ведь не знали, может, она надолго едет. И цветочки вот эти тоже стояли-стояли – и расцвели, а на дворе декабрь месяц, топят слабенько, зуб на зуб не попадает. А им хоть бы что. И запах прямо райский, просто сказка какая-то. Извините… это я… вспомнила просто… Извините… Вы если что не стесняйтесь, у меня никто не придет, я одна живу, плачьте сколько хочется. А то я вот так один раз ехала в метро, тетка у меня тогда умерла, стою-стою, и как зареву в голос, стыдоба одна…
Ну вот, она приехала – у меня аж сердце оборвалось: такая была красивая девочка! Такая была тоненькая, светленькая, прямо картиночка. А тут декабрь месяц, на ней куртка какая-то хлипкая, волосы немытые, сама вся как бочка, тридцать пять лет девке, а на все пятьдесят смотрится, и брови даже не выщипала, а все пальцы в кольцах, и береточка такая еще разноцветная, как детская. Думала, у нее беда какая произошла, но вроде бы все нормально: живет себе с мужем, он у нее музыкант, она вот художественный закончила, дочка у нее маленькая, с папой дома осталась. И чего приехала – непонятно.
Ругались они страшно. Два дня она всего у него пробыла. Я вечером зайти решила, подхожу к двери, а там такие крики стоят, что мамочки мои, голос-то у нее всегда был громкий. Ушла я тогда, не стала звонить.
А на следующий вечер она домой уехала. Ну, я пошла к нему узнать, чего случилось-то, а он мне навстречу из подъезда, весь шальной, волосы дыбом, говорит: эта дура совсем охренела… то есть, он покрепче даже сказал, он раньше-то при мне так не выражался. У нее, видно, тоже что-то с головой: разнесла она ему полквартиры, уж не знаю, чего они там не поделили. Компьютер ему разбила, бумаги какие-то порвала, очки у него прямо с лица дернула и в окошко кинула, таблетки его все в унитаз спустила.
И я смотрю, а он смеется. Как он улыбается, видела, а как смеется – никогда. Куда ж ты пошел на ночь глядя, в таком виде-то, говорю, ты же слепой как крот, если надо что-нибудь, я сходить могу. Неспокойно мне стало, и не зря, получается.
А он мне прямо радостно так: увольняюсь к чорту, уеду отсюда, поминайте как звали, надоело мне. Не жизнь, говорит, а каторга, за деньги всего не купишь, хватит, говорит. Вас, извините, тоже ругал, но он это не со зла, видно, а не в себе был, так-то он очень уважительно про вас… Она, говорит, мне отомстит, ну и чорт с ней.
У нас, конечно, уже слухи пошли: одни, кто знал его, говорит, что это правительство его убрало. У него же такая работа была… вы-то знаете, конечно. А еще другие говорят, что там драка была по пьяни, и его зарезали. Им бы все языками трепать.
А было все просто. Мне прямо вот не верится, что с таким человеком – и вот такое случилось. Напился он с кем-то, просто страшно напился, он же ни капли в рот никогда, ему нельзя было. И до дома не дошел, сел у лавочки прямо в снег, где фонарь на углу. А время было позднее, никто уже не ходит, никто и не знал. Ночью той у меня вся герань померзла на кухне, вот так было холодно. Нашел его Филимонов из второго подъезда, он всегда рано на работу идет…
Божечки мои, сколько? Да быть не может. Только что шесть часов было. Да, конечно, конечно. Вот как из подъезда выходите, налево, а потом прямо, там увидите дом такой оранжевый, а за ним детский сад. Детский сад обходите тоже слева, а там уже метро. Вы извините, что я вас так заболтала, понимаете же, не чужой человек-то был. Да что я говорю, вам-то он тоже не чужой. Вы вообще очень… сильная женщина, вот! Дай вам Бог всего! Если вдруг что-нибудь, вы мне позвоните, ладно? Да, да, до свидания.
Господи, да откуда здесь такой сквозняк.
Марина Воробьева
Не здесь
- Мальчик! Маааальчиииик! Ну дай покачаться! Ты тут уже час сидишь, ну!
- Мальчик! Дай девочкам покачаться, ты здесь не один на площадке!
- Итай! Ты же хороший мальчик, ты же всегда...
- Да он не слышит что ли?
- А давай его до планки раскачаем!
- Ну и пусть, а мы с ним играть не будем!
- Дурак!
Они приходили и уходили, они что-то кричали, дергали качели, раскачивали, ругались. Они все давно слились в один большой шар и кружились вокруг качелей. У каждого по две головы. Нет, по три.
Голова кружилась давно, теперь еще и подташнивало, но остановиться нельзя. Площадка отъезжала все дальше, куда-то через дорогу, за ближние горы в пустыню. Над пустыней туман, площадка уходит в туман и едет дальше в Иорданию. Наверное, те горы уже в Иордании, и вся площадка с горками и каруселями и со всеми, кто кричит и раскачивает, все это улетит туда, улетит далеко. И никто не помешает. И тогда все получится.
Только ладони уже очень болят и держаться трудно, а осталось совсем немножко, уже сейчас все должно случиться. Вот уже надвигается тьма, дальние горы смыкаются, такой плотный красный занавес опускается на горы. Как в театре. Только на самом деле. Руки соскальзывают. Можно не держать. Прыгнуть. Туда.
- Мальчик! Ты чего? Ты живой?
- Фу ты, слава Богу, открыл глаза.
- Скорую вызывай, быстро! Видишь, ребенок!
- Да вроде цел, только на качелях перекачался.
- Вот его отец идет.
***
- Вот хорошо, что мы дома одни. Мы маме ничего не скажем. И вообще обедать сегодня не будем, будем есть конфеты и печенье. Хочешь, Итай? Голова уже не кружится?
- Только немножко. Да не ушибся я, пап, не трогай меня!
- Вот, смотри – я все конфеты высыпаю на стол – буууум! Будем их сначала веревкой ловить, или так есть?
- Пап, ты очень испугался?
- Ну, как тебе сказать...
- А ты всегда, когда пугаешься, кормишь меня конфетами и играешь.
- Ничего-то от тебя не скроешь, - папа улыбается и завязывает узел на веревке. А потом быстро прицеливается и ловит самую вкусную конфету.
- Так нечестно, я первый!
- Да ладно, я тебе поймал!
- Так нечестно, я сам! Пап, нет, ты ее съешь, я чего-то не хочу. Пап, а скажи, а правда, что если на качелях очень долго качаться, можно оказаться в совсем другом месте? Ну, помнишь, ты рассказывал? Когда ты был маленький, ты качался на качелях и попадал во всякие странные места, которые не здесь, помнишь?
- Так вот почему ты... А я и не подумал, я совсем забыл. Итай, послушай... – когда папа так говорит «Итай, послушай», а потом замолкает и думает, это совсем не к добру. Он так говорил давно, когда мама болела и ее в больницу увозили. А еще когда собирались ехать все вместе за границу, а папе вдруг отпуск не дали.
- Итай, послушай... мы просто играли, как-будто качели – это такой поезд между мирами и он переносит нас во всякие странные места. Это была игра, Итай.
- А что ж ты!
- Итай, подожди, не вскакивай так резко, голова закружится! Итай, по...
В саду было уже почти совсем темно, только одна красная полоса осталась на небе, прямо как тот занавес. Итая опять затошнило, когда он подумал про занавес.
Папа за ним не пошел, Итай один в саду. И правильно, и пусть сидит там, ну его совсем! Он всегда так, когда Итай обижается, он думает, что обижаться человек может только сам и ему не надо мешать.
Итай сидел и смотрел вниз на холмы, а на холмах ветер ходил то вперед то назад. И трава раздвигалась так, будто там большой зверь ходит. И мотыльки под лампой в саду были какие-то очень большие и шуршали, будто шепчутся. И воздух покалывал ноздри и щекотал. И крыши домов внизу как-то странно светились. И ворона в темноте пролетела прямо над Итаем и почти задела крылом лампу. И каркнула так, будто сказать что-то хочет. А дальних холмов уже совсем не видно, они провалились в туман. Вот стояли и вдруг упали вниз и туман их накрыл.