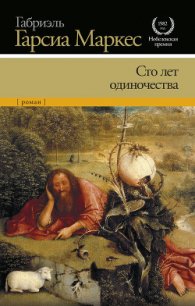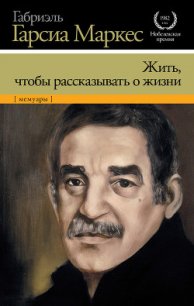Грифон - Конде Альфредо (книги полностью TXT) 📗
Едва я закончил, он сам позвал палача и сказал: «Входи, добрый человек, входи, ведь во всей Земле моей не нашлось ни одного такого, как ты. Добро пожаловать, – так сказал он ему, – ведь ты избавишь меня от печали и скверны». – «Я всего лишь исполнитель, сеньор», – сказал палач; и страдалец ответил на это: «Не говори так, ради Господа, ибо ты пришел, чтобы свершить деяние, достойное всяческой хвалы, и Господь вознаградит тебя, ведь ты пришел наказать и отметить худшему из людей, ступавших когда-либо по этой земле». Он сказал это, не отводя глаз от орудий, что принес с собою палач, а после молвил, к нашему великому удивлению: «Я должен лечь на эту доску? Я лягу сам, коли это необходимо». – «Нет, сеньор, в том нет нужды». – «Тогда, дружище, делай свое дело и установи ее, как следует».
Сказав это, он обнял нас всех, одного за другим, и, дойдя до меня, сказал: «Падре, да передаст Ваше Преподобие это объятие той госпоже и да попросит у нее прощения за то, что провела она столько времени в таком дурном обществе, как мое».
Палач связал ему руки, положив их одна на другую, но так, чтобы он мог поднять их вместе, и, когда ему на шею накинули веревку, мы сказали, чтобы он закрыл лицо платком, который мы ему подали, дабы не лицезрел он сие скорбное зрелище, но он не принял повязки, сказав: «Я желаю видеть глаза Ваших Милостей». Когда палач продолжил свое дело, он начал читать miseremini mei saltern vos amici mei quoniam manus domini tegitit me… [133] Я прочел ему из Евангелия от Иоанна и от Луки 1oquente Jesu [134], и, увидав, что в одной руке у него святая свеча, а в другой – распятие, мы забрали их у него, дабы он не поранил себе лица, ежели поднимет руки. И после свершил палач свое дело, и мучения страдальца длились четверть часа или даже менее того, и при том не пошевелил он ни рукой, ни ногой, ни головой, ни каким другим членом своим, и казалось, будто высечен он из мрамора или из галисийского гранита, и лишь по отсутствию дыхания узнали мы, что он отошел. Requiescat in pace [135].
Мадрид, января месяца восемнадцатого числа 1598 года. Скончался он в понедельник четырнадцатого ноября в семь часов утра.
Селестино де Пастрана
Чтение письма растревожило Приглашенного Профессора. Только этого и не хватало для завершения впустую прошедшего дня. Человек неисправим, и он всегда придумает себе некую догму, при помощи которой можно скрыть свою собственную тревогу и породить ее в душе других. Странные тени заполнили его жилище, а перезвон колоколов близкого собора привел его в полное замешательство. Кто же был этот человек, умерший без суда и следствия, и кто был негодяй, о котором он кричал в своем бессилии? Устав попусту тратить время, теряясь в догадках, которые полностью находились во власти его фантазии и зависели лишь от его воображения или, во всяком случае, от его умения усложнять себе жизнь, терзаясь из-за людей, с которыми он даже не был знаком, Профессор решил одеться и пойти погулять. Но он еще немного задержался; одеваясь, он вдруг застыл, размышляя на этот раз не об отдельном человеке, казненном, по всей видимости, по прямому указанию Филиппа II, а о такой абстракции, как всевластие человека, считающего себя вправе держать отчет лишь перед Богом и Историей, то есть не держать отчет о содеянном ни перед кем, даже перед собственной совестью, возможно, потому, что у него ее вовсе не было, а если и была, то, очевидно, достаточно деформированная, извращенная под влиянием какой-то психологической особенности патологического свойства, полностью освобождавшей его от какого бы то ни было чувства ответственности, осознания своей вины или греховности. Было бы в высшей степени странно, если бы такие дела вершили люди незлонамеренные! Люди, способные подписывать или отдавать приказы о смертной казни и при этом спокойно завтракать, обмакивая в молоко поджаренный хлеб или же лакомясь изысканными канапе и восхитительными бисквитами, время от времени отрываясь для этого от своего главного занятия – отправлять людей на казнь. Профессор вышел на улицу, намереваясь напиться – в одиночестве или в компании, при помощи вина или ликера, с завершающим аккордом или без такового.
С тех пор прошел год. Разумеется, в тот вечер он напился; все бары уже давно закрылись, его отовсюду выгоняли, и он не помнил, как добрался домой. Он не может вспомнить этого и теперь, в задумчивости перебирая в памяти события тех дней, сидя в своем кресле в Компостеле; он лишь неясно припоминает свое пробуждение воскресным утром, пробуждение позднее, тяжелое, когда голова гудит и ты умираешь от жажды; чтобы хоть как-то утолить ее, он выпил один за другим несколько стаканов воды с лимоном и снова взялся за письмо, чтобы перечитать его с какой-то отчаянной решимостью, почти на грани безумия, пытаясь домыслить все, что произошло с человеком, от которого осталось лишь упоминание в письме его имени, понять, что могло привести его к страшному финалу, имя которому – гаррота. Это воскресное одиночество в Эксе было мучительным. В середине дня он решил пойти искупаться в бассейне, где они были с Клэр, и едва он погрузился в воду и нырнул, как вспомнил о прилипающих волосах, но было уже поздно.
Вернувшись домой, он с радостью подумал, что завтра понедельник и он проведет его в обществе молодых людей, которые придут послушать его, сделав немного менее невыносимой его тоску. Студенты были ему нужны, чтобы скрасить то ужасное одиночество, в котором он пребывал, чтобы с их помощью узнать самого себя и вместе с ними благодаря их молодости тверже и увереннее шагать по жизни. И быть может, впервые за все эти дни он почувствовал зов родного крова.
Ему оставалось еще три дня занятий, которые прошли быстро, так что Профессор и не заметил, как они пробежали; ему так и не удалось сблизиться с Клэр, которая все эти дни была рядом, будто догадываясь, что с Профессором происходит нечто серьезное: он стал каким-то странным и нелюдимым и его часто можно было видеть в баре или прогуливающимся в сумерках по университетскому городку, вновь и вновь перечитывающим письмо, что вручила ему не в добрый, видно, час Люсиль. Его последняя лекция была посвящена восприятию смерти в приокеанских культурах, и обитатели Средиземноморья так и не смогли понять, почему жители Атлантического побережья полагают, а быть может, и убеждены, что люди умирают во время морского отлива, как непонятно им было и то, почему Профессор так серьезен, серьезен и отрешен, будто говорил он все это лишь самому себе, словно размышляя вслух.
Сидя теперь в своем кресле, он предавался воспоминаниям и думал об истории Грифона, об истории, которая так и не была даже начата за все десять долгих зимних месяцев с обильными дождями, в течение которых он тщетно пытался собрать воедино осколки невероятной фантазии, посетившей его, когда он ужинал под платанами.
Он устал. Он провел весь предыдущий день и часть этого, убирая и приводя в пристойный вид свою нору, с тем чтобы принять здесь Клэр, которая наконец выполнила свое обещание и отправилась из Экса в Компостелу по Галисийской дороге, сообщив ему о своем приезде. Удивительная девушка: казалось, она была ему ближе всех, но ему так и не удалось переспать с ней ни в течение всех тех дней в Эксе, когда мысли о ней неотступно его преследовали, ни позднее, в Мадриде, во время запланированной заранее встречи, которая тоже ни к чему не привела. Он уже смирился с этим и стал считать ее своей платонической любовью, которой одарила его приближающаяся – он это чувствовал, – совсем близкая старость. Итак, он вылизывал свою квартирку, как будто собирался принимать в ней, увы, уже не женщину, но богиню, и пытался найти убедительнее объяснения по поводу того, почему он до сих пор так и не начал писать обещанный роман.
133
Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня (лат.). («Помилуйте меня…» – Ветхий завет. Книга Иова, 19:21.)
134
…и сказал Иисус (лат.).
135
Да упокоится он в мире (лат.).