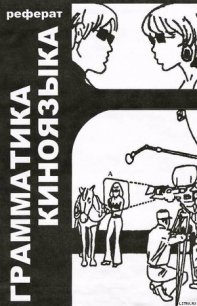Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля - Аржак Николай (читать книги бесплатно полные версии txt) 📗
Вдруг посреди сумбура сверкнула фраза, заставившая меня вздрогнуть и обернуться. Кто-то сказал:
– В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы…
Она сверкнула, как молния, и потонула во мраке слов, клубящихся надо мною, и, стремительно обернувшись, я не мог понять, который из этих лопочущих ртов только что произнес цитату из моего романа «В поисках радости». Но ошибиться я тоже не мог, потому что лишь вчера вписал в текст фразу о приближающейся грозе – именно в том варианте, в каком ее здесь повторили.
И вот опять, в подтверждение ужасной догадки, другой голос в другом конце комнаты негромко, но внятно сказал:
– Возду… чуста… хани… жаю… зы…
Сомнений быть не могло: меня обокрали, у меня похитили мою жемчужинку.
Я не медля протолкался к Семену. Тот в позе Наполеона взирал на вакханалию. Вдавленными своими ноздрями, толстогубыми губами, вытянутыми дудочкой, он жадно впитывал все слова и звуки, летавшие суматошно по воздуху. Он так был поглощен этим делом, что даже не заметил меня. А я в ту минуту, я – прозрел и с ясностью художника, постигшего внезапно всю подлость жизни, я прочитал интуитивно все то, что было написано на жадном лице Галкина.
Именно он, Галкин, и никто другой, был главным виновником моей потери. Недаром он вчера разводил философию, что, дескать, все мы ничего хорошего сами не сочиняем, а лучшие мысли приходят на ум из воздуха. Недаром он и сейчас прислушивался ко всему: завтра использует и скажет: «не моя собственность», «случайно пришло в голову, подвернулось на язык». С такою же легкостью он отдал своим друзьям-графоманам мою золотую жемчужину. Наверное, подсмотрел в рукописи, пока я спал или ходил в уборную… И вот она ходит по рукам, как разменная монета, среди шулеров и мошенников…
Я подергал Галкина за рукав и с ехидством спросил:
– А тебе, Семен, не хочется записать? Чтобы не забыть и завтра использовать…
– Хочется! – сказал он, даже не покраснев. – Хочется! Но ведь я не драматург и, к сожалению, не прозаик. У меня не получится… Вот на твоем бы месте, Страустин, я бы сочинил что-нибудь подобное… Рассказ, или еще лучше – повесть, роман, эпопею! Я бы назвал ее «Графоманы»! Эпопею про неудачных писателей: Материал, материал-то какой пропадает!…
Видя, что он уклоняется, я спросил – тоже достаточно иронически:
– А как тебе покажется, Семен, такая фраза?… Мне сейчас довелось услышать…
И я процитировал финальный аккорд из моего романа: «В воздухе чувствовалось дыхание приближающейся грозы». Но Галкин опять не покраснел.
– Плохая фраза, – сказал он хладнокровно. – Избитая, старая, как двугривенный… Но разве в этом суть? Дело не в том, как они пишут, а как они жаждут!…
Толковать с ним было бессмысленно. Он прикинулся, что не улавливает моих намеков, и вновь начал ораторствовать:
– Неудачники? Все – неудачники! Всякий человек – неудавшийся гений? Но только мы, мы неудачники, постигшие всю глубину наших гениальных возможностей, только мы знаем… И только в нас, в нас самосознание человечества…
Галкин обращался ко всем. Но графоманы были в азарте. Они вели игру, передергивая слова, перехватывая друг у друга карты, и ничего не заметали. Мое сердце наполнялось презрением. Они украли у меня драгоценность, и назвали ее двугривенным, и пустили ее в оборот, чтобы повысить шансы. Это им не помогло. Они все проигрывали, отчаянно проигрывали, они буквально разорялись у меня на глазах…
В ту ночь мне не спалось. Я положил под голову мою ограбленную рукопись, чтобы Галкин не произвел новых опустошений. Теперь я мог в течение ночи безотрывно контролировать затылком ее нетвердую жесткость. Мне было ясно, что у Галкина оставаться дальше нельзя.
Хозяин преспокойно храпел на письменном столе, соорудив ложе из книг, пальто и единственной в доме подушки. На тахте, где спал обычно Галкин, растянулся учитель ботаники. Ему нужно было в школу к первому уроку, и он не поехал к себе в Фили и остался здесь ночевать. Его присутствие тоже меня не радовало. Я подвинул к дивану лампу и, раз уже мне все равно предстояла бессонница, взял Константина Федина – «Первые радости» и «Необыкновенное лето».
Слог показался мне вялым, а сюжет скучным. Как большинство современных авторов, превративших литературу в неприступную крепость, Федин не обладал ни умом, ни талантом, ни знанием предмета, о котором пишет. Он рассказывал о революции и гражданской войне, ничего в этом не смысля. Но некоторые слова и выражения, если к ним приглядеться внимательнее, выделялись в лучшую сторону и были вроде бы мне хорошо знакомы. Приглядевшись внимательно, я в них обнаружил близкое сходство со мною – с моими книгами разных периодов, все еще не опубликованными.
Например, Федин писал: «Дорога привела на обширную садовую и огородную плантацию». В моей же повести 1935 года «Солнце встает над степью» была – я отлично это помнил – такая фраза: «Дорога привела на обширное поле, засаженное яблонями». Только у меня эти яблони, помнится, цвели и блистали на солнце розовыми лепестками. А Федин, чтобы скрыть плагиат, ликвидировал всю красоту на моих цветущих деревьях и тем неизмеримо ухудшил эту сцену. Но все же мои крупицы, даже в искаженном виде, помогли ему быстро сделать блистательную карьеру, и теперь без зазрения совести он потреблял плоды славы, которые по праву принадлежали мне одному.
Как проклинал я мою доверчивость! Мои рукописи пребывали без движения в издательствах, чтобы через месяц и более вернуться ко мне назад – с выщипанными страницами и неизменным отказом. А пока я страдал в ожиданиях, ловкие руки разных Галкиных, Фединых умело их обрабатывали и пускали в ход под чужими, под фальшивыми именами…
Я встал с постели и, обшарив полки, набрал кучу книг, выпущенных в последние годы. И в какую бы книгу я ни смотрел – открыв на середине – Леонова, Паустовского, Фадеева, Шолохова, – всюду я натыкался на мои следы, погруженные в массу глупого, ни на что не похожего текста. Даже у Франсуа Мориака – при самой беглой проверке – я нашел четыре детали, заимствованные из одного моего юношеского рассказа под названием «Человек», и я долго ломал голову, как же это произошло, пока не догадался, что похитители могли ведь и через границу переправлять копии с моих произведений…
Я был столь обескровлен всеми этими впечатлениями, что под утро невзначай задремал и мне приснился кошмар. Мне снилось, что я сплю, а в мою черепную коробку, сквозь затылок и мозжечок будто бы врезается бумажный лист, испещренный машинописными знаками. Я смотрю в этот лист перевернутыми к затылку глазами и напрягаюсь прочесть, что там напечатано, и от этого будто бы в моей личной судьбе все зависит. А слепые абзацы то выступят передо мной на мгновенье, то померкнут, то выступят, то опять померкнут, и ничего не получается. Я долго мучился, так и не разобрав, что там было написано, и, когда пробудился, голова у меня затекла и шея ныла, и на часах было уже четыре часа дня.
Учителя ботаники и след простыл, а Галкин сидел одетый за столом и что-то быстро писал – все то, вероятно, что успел запомнить из вчерашнего кавардака. Он был неразговорчив и желтолиц, и любоваться на него было противно.
Я знал, что нужно поскорее уходить отсюда, пока графоманы меня полностью не обобрали, но почему-то медлил, волынил, слонялся из угла в угол, бесцельно лежал на диване, потягивался, и все мне как будто чего-то недоставало, чтобы взять и уйти. Нащупав в кармане двугривенный, я подошел к застекленной секции, где Галкин хранил свои книги, сделанные ручным способом, и тихонечко постучал в предохранительное стекло моим двугривенным. Галкин сперва терпел, потом просил пощадить, потом поднял голову и огрызнулся:
– Перестань! Что тебе надо?
На пять минут я оставил его в покое, затем снова включился в игру, и я потешался над ним методично до тех пор, пока он не выскочил из-за стола и не начал ругаться. Тогда я сказал ему – спокойно, как только мог:
– Галкин, Галкин, а ведь ты – графоман. Ты самый настоящий, заурядный графоман…