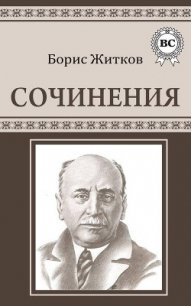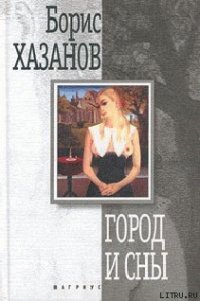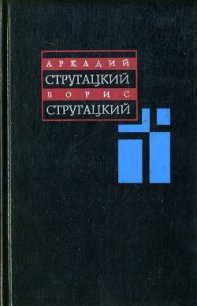Портрет незнакомца. Сочинения - Вахтин Борис Борисович (лучшие книги онлайн .txt) 📗
— Совсем давление пропало, — беспомощно сказала юная докторша. — Что бы такое дать ему?
— Водки стакан, — сказала Анна Павловна, отвлекаясь от своего отражения.
Докторша сделала вид, что улыбается этим словам, принимая их за горькую шутку. Но тут больной прошептал:
— Пить.
И Анна Павловна достала бутылку, налила стопку, присела к мужу на постель, приподняла его и дала ему водки:
— На, выпей.
— Вы его убиваете! — трагическим шепотом сказала докторша. — Я не разрешаю!
— Пошла ты отсюда, курица, — ощерилась Анна Павловна. — Не видишь, что ли, — отходит человек.
Платон Степанович сделал с трудом один глоток, открыл глаза.
— Спасибо, — вдруг внятно сказал он и, не торопясь и не проливая, допил стопку. У него хватило сил коснуться руки жены, не то отстраняя, не то благодаря, после чего он опустился на подушку и опять закрыл глаза — теперь уже навсегда.
— Кончился, — сказала Анна Павловна каким-то торжественным удовлетворенным тоном.
— Что вы наделали вашей водкой? — сказала докторша, но укора в ее голосе не было.
— Пишите, что там требуется, — сказала Анна Павловна, не отводя глаз от лица мертвого.
— Я пишу, — кивнула докторша, садясь к столу.
По поводу наследства, оставленного дочери Платоном Степановичем, Анна Павловна специально приезжала в Инск, где явилась к Наде и без предисловий сказала, что считает завещание мужа, хоть юридически и грамотно составленным, но все-таки спорным, а главное — несправедливым.
— Так что, Надька, давай по-хорошему. Все советуют до суда не доводить — я говорила с Утехиной, помнишь ее, она теперь председатель городского народного контроля, между прочим, ты, может, не знаешь, я у нее заместительница, не освобожденная, но все-таки, так Утехина сказала, что в случае чего можно о твоей религиозной у нас пропаганде вспомнить, как ты из ее училища в церковь к попу Амвросию бегала петь, людей дурманить помогала, пора бы прикрыть его контору, но рука у него, говорят. И еще она сказала, что можно его и к суду привлечь, поскольку ты несовершеннолетняя была, а он тебя совращал духовно — только ли духовно, интересно знать? Здесь у тебя, между прочим, любовников-то много? Может, поделишься? Или один?
Словом, Анна Павловна сразу и без всякой маскировки все свои козыри дочери показала, и у меня, понятно, нет сомнения, что белое платье, васильки и желанная ласточка — плод больного воображения Нади, ее, так сказать, мечты, правда, достаточно сильные, чтобы она их выдавала за реальность, к сожалению, до противного сентиментальную.
— Много ты понимаешь, — возразила она мне. — Не спала я и не мечтала.
«Она меня еще рыбкой светлоглазой назвала. Только вдруг я ее хуже видеть начала, марево перед глазами поплыло, и я словно сознание потеряла, а когда снова проснулась — совсем другое увидела: она за столом чай пьет, платье на ней обычное, а васильков нет нигде. Я вскочила, ищу их, а мать спрашивает:
— Как это понять, что ты днем дрыхнешь?
— Где васильки? — спрашиваю я.
— Почему матери не отвечаешь?
— Ну, где же васильки, которые ты мне дала?
— Не притворяйся, — поморщилась мать, вставая. — Почему посмела днем спать?
— Мне укол сделали…
— Какой еще укол? — она привычно кинула меня к себе на колено, задрала платье, сдернула трусики.
И — не стала бить. Помолчав, с омерзением отбросила меня.
— Рассказывай, — велела, а у самой руки начали дрожать — как у отца, когда тому нечем опохмелиться.
— Не хочешь, значит, в детдом, — усмехнулась брезгливо, выслушав. — А жаль. Надоела ты мне, недоделанная, ох, надоела… А что это про цветы городила?
— Не знаю, — об этом рассказывать я не хотела.
— Может, сбрендила? Какие сейчас васильки. Тьфу, как тебя зеленым разрисовали! Тьфу…
А потом нашла школьную докторшу, поговорила с ней, и та с тех пор на меня глядела испуганно и враждебно. Впрочем, видела я ее редко, а вскоре она от нас и вообще в далекие края улетела.
Через месяц появился у нас в доме решительный старичок, розовый, как поросенок, долго мыл руки под рукомойником, долго слушал мать — какая я безнадежно непослушная, капризная, истеричная… Талант у матери — так рассказать, что вроде бы и верно, да только все не так. Вот с тем батоном, например, — несла я его из булочной, у самого дома поскользнулась и выронила. Она из окна видела. Батон я почистила — ни соринки на нем не осталось, а она вдруг говорит:
— Откуда грязь на батоне?
— Нет на нем грязи, — возразила я.
Сам понимаешь, что после моих дерзких слов было.
А старичку она рассказала между прочего, будто я назло ей батоны в грязи валяю и смотрю исподтишка, как она ест замаранный хлеб.
Долго она говорила, я не все тогда и поняла, особенно про мои наклонности. Спросишь, почему отец молчал? Утром она с ним заговорила вдруг приветливо, улыбнулась ласково — как мне, когда с васильками приходила, — он обнял ее, она не отстранилась. Он побрился в то утро, поцеловал ее, она его тоже… Он как сумасшедший стал, так что при старичке матери только поддакивал, на меня поглядывал нетерпеливо. Старичок меня осмотрел — к тому дню все у меня зажило — и сказал, что случай сложный, переломный возраст, пик инфантильного негативизма, паралич позитивной воли, явные симптомы клептомании, латентные пороки, возможны кризисные перегрузки психики, вплоть до суицидных интенций (видишь, какие я слова знаю — тебе-то, бедный мой Афанасий Иванович, и невдомек, какое злополучие ты избрал, — сопи, сопи, отдыхай), что лично он в таких случаях в химию не верит, от порошков проку не будет, от новомодных идей тоже, а советует он старинное, дедовское еще лекарство — недаром же говорит народная мудрость, что за одного двух дают; это он рекомендует, конечно, неофициально, но в своей многолетней практике, еще в Москве, до пенсии и возвращения в родное Сказкино, он, как профессор гонимой тогда психологии, прописывал детям из очень и даже очень, знаете ли, известных семей ученых, руководителей и артистов это лекарство — и всегда помогало, если давали щедрые дозы. У дверей мать ему что-то всучивала и всучивала, а я подумала, что либо найду, как спастись, либо ночью сегодня же повешусь. Не забывай, я уже не маленькая была, двенадцать исполнилось…
Наверно, бес меня надоумил — сбегала в аптеку, купила зеленки и всю себя ею сзади раскрасила. Вечером мать надо мной начала коршуном кружить — изголодалась… И вот даю я ей сама повод, который она выискивает: сделала вид, что ловлю муху, рукой бац по тарелке — тарелка на пол и вдребезги. Понимаешь, больше ждать сил не было — и страшно до черноты в глазах, и мать жаль нестерпимо, больную, я же все про них с отцом знала, стенки в доме фанерные, все их разговоры слышно. Как ни забивалась под подушку — все слышно… Не могла больше терпеть я страх и жалость — у меня на чердаке и веревка была уже привязана… Да, тарелка вдребезги, мать схватила припасенные розги, профессором рекомендованные, заголила меня… Но как увидела зеленые пятна, так губы у нее запрыгали, сморщились брезгливо, отшвырнула она и меня, и прутья…
— Убирайся из дому, — кричит, — гадина противная!
Я — бежать, вернулась к ночи, заползаю в дом — а они с отцом пьют, вторую бутылку водки кончают. Раньше не пила она, а тут надо же. До глубокой ночи пили, я не спала. Наверно, о многом они поговорить хотели и раз сто начинали даже, но хмель им мешал. В конце концов перестали они друг друга понимать.
— Послушай, что я скажу, — начинает один.
— Да не в том же дело, — перебивает другой.
— Как ты не понимаешь, — говорит один.
— Послушай, что я скажу, — перебивает другой.
— Да не в этом же дело.
— Как ты не понимаешь!
— Нет, но это же просто!
— Ты послушай меня!
— Ты вспомни, как это было!
— И все-таки я все тебе скажу!
И все в таком духе бормочут, мычат, пыхтят, а кажется им, что разговаривают…
Наконец затихли, легли, бросив стол неубранным, но вскоре мать начала ругаться и называть отца пьяным мерином, а он вдруг захрапел.